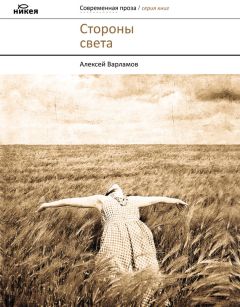Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
«Я хочу доставлять вам радость…»
Я хочу доставлять вам радость.
Ну а как доставлять вам радость?
А может, себя однажды почувствовать почтальоном, несущим тяжелый груз?
И вот я себя однажды почувствовал почтальоном, несущим тяжелый груз.
С грузом моим тащусь по городу, маюсь.
Не на троллейбусе езжу – хожу пешком.
Лифт у вас не работает – я поднимаюсь
на пятый этаж, на десятый этаж пешком.
Моя сумка наполнена вашими адресами.
Поднимаюсь по лестницам, как в заоблачные края.
Ну, а если хотите – приходите на почту сами:
там окошки от А до К и от Л до Я.
Отделеньям связи прикажу, чтоб были готовы.
Никаких чтоб заминок не было и толчеи.
Старенькие матери и солдатские вдовы,
предъявите в окошко просто морщины свои!
А я в этот час по Трубной иду, по Сретенке.
Ноет плечо от кожаного ремня.
И почтовые ящики, эти замкнутые посредники,
смотрят глазами ждущими на меня.
Хлопайте, ящики! Звонки на дверях, звените!
День только начался. Мне ходить еще и ходить.
Порой я еще запаздываю – извините.
Но я постараюсь вовремя приходить.
Земное небо (1963)
…Но землю с небом, умирая, он все никак связать не мог.
Езда в незнаемое
Никогда не наскучит езда в незнаемое.
Днем и ночью идут поезда в незнаемое.
Кто-то молча табак у окна раскуривает.
Кто-то шумно бутылку вина раскупоривает.
Кто-то пишет письмо, где клянется в верности.
И на всем – загадочный отблеск вечности.
Это грустное дело – езда в незнаемое.
Ведь не каждый приедет туда, в незнаемое.
Кто-то ночью сходит на тихой станции
и уже остается на этой станции.
Полыхает небо в туманной млечности.
И на всем – обманчивый отблеск вечности.
Но прекрасное дело – езда в незнаемое!
За какой-то березкой, давно знакомою,
в тишине открывается вдруг незнаемое —
неизвестное, странное, незнакомое.
Осторожно вглядываемся в незнакомое,
будто видим что-то в нем незаконное.
А оно все ширится, незнакомое,
еще в рамки привычности не закованное.
О, сигнал отправления! Ветер скорости.
Вечный путь от скованности к раскованности.
Обновление жизни. Езда в незнаемое.
Покатилась где-то звезда в незнаемое.
Никакой законченности и увенчанности.
Только этот незыблемый отблеск вечности.
Мое поколение
И убивали, и ранили пули, что были в нас посланы.
Были мы в юности ранними, стали от этого поздними.
Вот и живу теперь – поздний. Лист раскрывается – поздний.
Свет разгорается – поздний. Снег осыпается – поздний.
Снег меня будит ночами. Войны мне снятся ночами.
Как я их скину со счета? Две у меня за плечами.
Были ранения ранние. Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение. Поздно приходит признание.
Я все нежней и осознанней это люблю поколение.
Жесткое это каление. Светлое это горение.
Сколько по свету кружили! Вплоть до победы – служили.
После победы – служили. Лучших стихов не сложили.
Вот и живу теперь – поздний. Лист раскрывается – поздний.
Свет разгорается – поздний. Снег осыпается – поздний.
Лист мой по ветру не вьется – крепкий, уже не сорвется.
Свет мой спокойно струится – ветра уже не боится.
Снег мой растет, нарастает – поздний, уже не растает.
Мои возраст
Не такой я и старый. А выходит, что старый.
Сколько в жизни я видел? Много разного видел.
Я дружил еще с лампой, с керосиновой, слабой.
Был тот свет желтоватый, как птенец желторотый.
Разбивались безбожно трехлинейные стекла.
А достать было сложно эти хрупкие стекла.
Нас за стекла наказывали. Нас беречь их обязывали.
Их газетой оклеивали. Или ниткой обвязывали.
Как давно это было! А давно ли то было?
А когда ж электричество вдруг меня ослепило?
А приемник детекторный? А экран звуковой?
Самый первый, с дефектами, но уже звуковой.
Вот настолько я старый, хоть не так уж и старый.
Все во мне уместилось, улеглось, умостилось.
Керосиновой лампы трехлинейные меры.
Электронные лампы на орбите Венеры.
Кое-что о моей внешности
Я был в юности – вылитый Лермонтов.
Видно, так на него походил,
что кричали мне – Лермонтов! Лермонтов!
на дорогах, где я проходил.
Я был в том же, что Лермонтов, чине.
Я усы отрастил на войне.
Вероятно, по этой причине
было сходство заметно вдвойне.
Долго гнался за мной этот возглас.
Но, на некий взойдя перевал,
перешел я из возраста в возраст,
возраст лермонтовский миновал.
Я старел, я толстел, и с годами
начинали друзья находить,
что я стал походить на Бальзака,
на Флобера я стал походить.
Хоть и льстила мне видимость эта,
но в моих уже зрелых летах
понимал я, что сущность предмета
может с внешностью быть не в ладах.
И тщеславья – древнейшей религии —
я поклонником не был, увы.
Так что близкое сходство с великими
не вскружило моей головы.
Но как горькая память о юности,
о друзьях, о любви, о войне,
все звучит это – Лермонтов! Лермонтов! —
где-то в самой моей глубине.
Земля
Я с землею был связан немало лет. Я лежал на ней. Шла война.
Но не землю я видел в те годы, нет. Почва была видна.
В ней под осень мой увязал сапог, с каждым новым дождем сильней.
Изо всех тех качеств, что дал ей бог, притяженье лишь было в ней.
Она вся измерялась длиной броска, мерам давешним вопреки.
До второй избы. До того леска. До мельницы. До реки.
Я под утро в узкий окопчик лез, и у самых моих бровей
стояла трава, как дремучий лес, и, как мамонт, брел муравей.
А весною цветами она цвела. А зимою была бела.
Вот какая земля у меня была. Маленькая была.
А потом эшелон меня вез домой. Все вокруг обретало связь.
Изменялся мир изначальный мой, протяженнее становясь.
Плыли страны. Вился жилой дымок. Был в дороге я много дней.
Я еще деталей видеть не мог, но казалась земля крупней.
Я тогда и понял, как земля велика. Величественно велика.
И только когда на земле война – маленькая она.
Мое воскресение
А как я умирал на железной койке,
молодой, со вспоротым животом!
Оказалось, что это сначала – горько,
но совсем спокойно было потом.
Я лежал в проходе, под мягким светом,
и соседи, сгрудившиеся у моих ног,
«Не жилец!» – твердили. Но я об этом
ничего, разумеется, знать не мог.
Я лежал в бреду и, сдаваясь бреду,
рассуждал на исходе второго дня:
в той стране печальной, куда я еду,
есть друзья хорошие у меня.
И по мере того, как сознанье гасло
где-то в темных глубинах, на самом дне,
на душе у меня становилось ясно
и спокойствие разливалось по мне.
Мне казалось – в светлом высоком зале
моего пришествия ждут друзья…
Умирал я. В тот вечер врачи сказали,
что уже помочь тут ничем нельзя.
Но я молод был. Я был юн. Я выжил.
Был сужден мне, видно, иной удел.
Опираясь на палку, я в город вышел.
Я другими глазами на мир глядел.
Я забвенью предал его пороки.
Я парил над богом и над людьми.
Все философы мира и все пророки
мне казались маленькими детьми.
Флаги
Годы людей стирают. Плачут они, стенают.
А люди живут как люди. А люди белье стирают.
Подсинивают его синькой. Крахмалят его крахмалом.
Развешивают над землею фамильные свои флаги.
И вот на жердях забора, над зеленью косогора,
висят штаны Пифагора или трусы Платона.
И ветер его трусами играет, как парусами.
И это не обедняет – это объединяет.
О, дворники и министры, как схожи у вас надежды!
Как схожи у вас одежды, монахи и атеисты!
Стекают капельки влаги с сорочек и комбинаций,
и вьются они, как флаги объединенных наций.
Смерть
Я давно знаю, что, когда умирают люди
и земля принимает грешные их тела,
ничего не меняется в мире – другие люди
продолжают вершить свои будничные дела.
Они так же завтракают. Ссорятся. Обнимаются.
Идут за покупками. Целуются на мостах.
В бане моются. На собраньях маются.
Мир не рушится. Все на своих местах.
И все-таки каждый раз я чувствую – рушится.
В короткий миг особой той тишины
небо рушится. Земля рушится.
И только не видно этого со стороны.
Ожиданье
В мирозданье,
как в зданье пустом, —
ни огня и ни звука.
Эй, хоть кто-нибудь там,
отзовитесь!
Вы уснули, должно быть?
Или просто уехали все
по туманным шоссе
на серебряных велосипедах —
погулять,
побродить
по окрестным туманностям?
На рыбалку ушли,
на охоту,
окончив работу
в субботу, —
на весь выходной?
Завтра вечером
вы возвратитесь домой
с золотыми огромными рыбами
и с охапками синих цветов.
Вы забросите удочки в угол,
поставите в банки цветы
и положите рыб в холодильник.
А потом заведете будильник
на восемь
и ляжете спать,
чтобы вдруг не проспать
на работу.
Я стою в ожиданье,
когда вы вернетесь домой,
побродив по окрестным лесам.
Очень долгим он кажется,
ваш выходной,
по земным моим быстрым часам!
Бип-бип