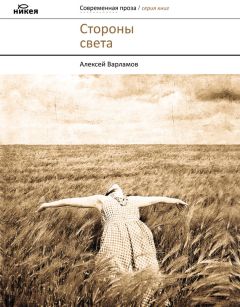Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
Популярность
Я живу сейчас на Садовой.
Чехов тоже жил на Садовой.
Этот маленький старый домик
между нынешними домами —
словно маленький скромный томик
между кожаными томами.
Домик ярко не освещается.
Он не многими посещается.
А на ближней Садовой
где-то громко светится оперетта.
Ее многие любят сильно.
Там изящно страдает Сильва.
Там публично грустит Марица.
Туда дамы идут молиться.
Слышу возле киоска ближнего: —
Нет билетика? Нету лишнего?
…Чехов. Шумное представление.
Велико ты, кольцо Садовое!
Здесь не противопоставление —
ты не думай, кольцо Садовое!
Просто вот какие полярности.
Просто разные популярности.
Сто друзей
Ста рублей не копил – не умел.
Ста друзей все равно не имел.
Ишь чего захотел – сто друзей!
Сто друзей – это ж целый музей!
Сто, как Библия, мудрых томов.
Сто умов. Сто высотных домов.
Сто морей. Сто дремучих лесов.
Ста вселенных заманчивый зов:
скажешь слово одно – и оно
повторится на сто голосов.
Ах, друзья, вы мудры, как Сократ.
Вы мудрее Сократа стократ.
Только я ведь и сам не хочу,
чтобы сто меня рук – по плечу.
Ста сочувствий искать не хочу.
Ста надежд хоронить не хочу.
…У витрин, у ночных витражей,
ходят с ружьями сто сторожей,
и стоит выше горных кряжей
одиночество в сто этажей.
Памятник
Памятники министрам и самодержцам.
Памятники философам и поэтам.
Памятники прославленным генералам
и неизвестным памятники солдатам.
Бронзовая и мраморная держава.
Каменное, застывшее государство.
Нету нехватки в памятниках,
и все же новый сегодня памятник открываю.
Между бараков, бань и высотных зданий,
между пивной и башнею телецентра
высится величаво на пьедестале,
в небо упершись, газовая конфорка.
Два часовых стоят у ее подножья,
напоминая нам о путях прогресса:
дед ее – старый воин в медалях —
примус, бабка ее сварливая – керосинка.
Вы догадались, правильно, перед вами —
памятник неизвестной домохозяйке.
Царство за царством рушится. Полыхает
вечный огонь над газового конфоркой.
В Ленинграде, когда была метель
И снег этот мокрый,
и полночь, и ветер —
впервые.
На Невке, на Мойке
я в этом столетье
впервые.
И вьюга мазурки все кружится.
Здравствуйте, Лиза!
Послушайте, Лиза,
куда вы торопитесь, Лиза?
Все вьюжит и вьюжит.
Смотрите, вам холодно будет.
Кончается полночь,
а Германна нет,
и не будет.
Ну, будет вам, Лиза,
не надо печалиться очень.
Вы знаете, Лиза,
ведь вы меня любите очень.
Недаром же дверцу
вы мне отворяете, Лиза,
и смутное сердце
вы мне доверяете, Лиза.
Мы снова и снова
все те же мосты переходим,
и слово за словом
мы с вами на ты переходим.
Ты любишь, скажи мне?
Ты любишь?
Скажи мне, ты любишь?
А ты меня любишь?
А ты?
Ну, а ты меня любишь?
Люблю тебя, Лиза!
Нет, Ольга!
Зови меня Ольгой!
Как странно —
я звал тебя Лизой,
я знал тебя Ольгой.
Я все тебя путаю
в этой старинной метели.
Я бережно кутаю
плечи твои
от метели.
И вьюга мазурки
меня навсегда засыпает.
И Лиза моя
на руке у меня
засыпает.
И боязно губ этих сонных
губами коснуться.
И трудно уснуть,
и совсем невозможно
проснуться.
«То было при вас и при мне…»
То было при вас и при мне.
Нам выпала эта удача.
О две Ярославны, два плача
в Путивле на древней стене.
Две разно звучащих струны.
Две музыки, равно опасных.
Два мудрых ребенка лобастых
и две пограничных страны.
Вы знаете их имена,
поскольку событие это
свершалось вот здесь,
а не где-то, сейчас,
а не в те времена.
Среди уцененных вещей
и неоцененных новинок
они проходили на рынок,
чтоб свежих купить овощей.
Но все изменялось,
едва они выходили на сцену.
Меняли привычную цену
звучавшие ране слова.
Они открывали уста,
пророчили и причитали,
и все, что они прочитали,
запомнили вы неспроста.
Она воедино свела,
высокая их одаренность,
далеких миров отдаленность
и ваши земные дела.
И все-таки колокол бил
в Путивле, и стрелы летели.
Две женщины грустно глядели,
как медленно колокол бил.
И падали воины их,
зане были силы неравны.
И плакали две Ярославны
о воинах милых своих.
Трава
Марине
Всему свой срок. Сейчас пора травы.
Она легко пробилась между строк,
и, маленькая, ты по ней идешь,
не замечая, как она густа.
Ты тоже между строк в моих стихах.
Ты тоже как травинка. Можешь лечь
на белом поле этого листа
и не привлечь вниманья моего.
А я вверху. Я где-то там. Где бог.
Что я могу? Что сделать для тебя?
Карандашом я обвожу кружок.
Вот это твой лужок. А дальше снег.
А дальше поле. Белые листы.
И белые кусты. И слабый след
неровной строчки белого стиха.
А ты тиха. Тебя пугает снег.
Им окружен твой маленький лужок,
и ты боишься выйти из него.
А ты не бойся. Ты моя трава.
Ты все равно пробьешься между строк,
заполнив эти белые листы.
А до того – белы они. Пусты.
Пока ты не пробьешься между строк.
«То ты в слезы, то в хохот…»
То ты в слезы, то в хохот.
Столько шуму наделала.
Убежала на холод.
Хоть бы шубу надела!
Ты под снежною крупкою
стала хрупкою-хрупкою,
стала маленькой-маленькой,
совершенно беспомощной.
Вот и кончился пригород.
Как леса здесь бесшумны!
Белки рыжие прыгают.
Ну куда ты без шубы?
Всё ты по снегу по снегу
по вечернему, позднему,
в этих туфельках бежевых,
в этом свитере тоненьком.
Ты затянута изморозью.
То шагнешь, то оступишься.
Как ты вырвешься из лесу?
Ведь без шубы простудишься.
Лес большой. Лес не кончится.
Спать ужасно захочется.
Ты прислонишься к дереву
и задремлешь, усталая.
Под холодными звездами
я бегу за тобою.
Я кружу между соснами.
Я бегу за тобою.
Я кричу: – Возьми шубу! —
Я в сугробы проваливаюсь.
Между тихими соснами —
шубу! – слышится – шубу!
Дождь
Смотрите, что делает дождь!
А как настороженны липы!
Вот тут вы как раз и вошли бы,
пока не окончился дождь.
Пока не случилась беда,
вошли бы в мерцании капель.
Я камень лежачий, я камень,
заброшенный кем-то сюда.
Вам так меня тронуть легко!
И вы меня стронуть могли бы.
Смотрите, как жертвенны липы,
как дышится в ливень легко!
Я все вам потом возмещу.
Однажды зимой, при морозе,
я все опишу это в прозе
и всю ее вам посвящу.
И я назову ее так:
«Записки лежачего камня».
А может быть – «Исповедь камня».
А может быть, даже не так.
И я назову ее «Дождь».
И станет названье прологом.
И станет великим пророком
мне вас напророчивший дождь.
Все это я вам подарю,
чтоб так же и вас поднимало.
И я понимаю, как мало я,
в сущности, вам подарю.
«Разлюбили. Забыли…»
Разлюбили. Забыли. Так однажды забыли,
будто двери забили и все окна забили.
В заколоченном доме моем не светает.
Только слышу, как с крыши сосулька слетает.
Кто-то мимо проходит. Кого-то зовут.
В заколоченном доме моем только звуки живут.
Только звуки приходят ко мне и гостят у меня.
Звуки ваших часов. Звуки вашего дня.
Вот я слышу, как вы зажигаете свет через тысячу стен от меня.
Ваше платье упало на стул. Это вы раздеваетесь.
Вы гребенкою чешете волосы. Это гроза.
Через тысячу стен этих слышу, как вы раздеваетесь,
как вы дышите, как закрываются ваши глаза,
как становится тихо потом, а потом, погодя…
Белый звук снегопада. Зеленые звуки дождя.
Женщина в голубом
У курортного моря, в том безветрии голубом,
я встречал одну женщину. Она вся была в голубом.
Голубые туфельки. Шляпка модная голубая.
И глаза голубые. И книга в руке – голубая.
На нее молились изнемогшие от подагры
пожилые курортники Старой и Новой Гагры.
Не дыша глядели, стоя в садиках и в калитках,
на нее, плывущую в этих пальмах и эвкалиптах.
Вот она идет, то их милуя, то карая,
по ковровой дорожке их голубого рая.
Как всегда, с голубою книгой в руке идет.
Голубая книга удивительно ей идет.
И она это знает. Она не возьмет любую.
Она выбирает обязательно голубую.
Она равнодушна ко всем остальным книгам.
Она знает жизнь по одним голубым книгам.
Письмо
Пускай та поплачет…
Что делать мне, ума не приложу.
Давайте я вас лучше провожу.
Вы, с вашим недоверьем к чудесам,
живите здесь, а я уеду сам.
Уеду сам. Я взял уже билет.
Я напишу вам через двести лет.
Вас удивит ребячливость письма,
короткого и вздорного весьма.
Я напишу вам что-нибудь про то,
что снова носят длинные пальто,
что вот уже в теченье двух недель
у нас не прекращается метель,
что я курю и, в сущности,
пока не думаю о вреде табака…
От этого бессвязного листка
охватит вас внезапная тоска.
И старый пес, ложась у ваших ног,
вздохнет о том, что тоже одинок.
И будет думать добродушный пес,
как отгадать причину ваших слез.
Приятель