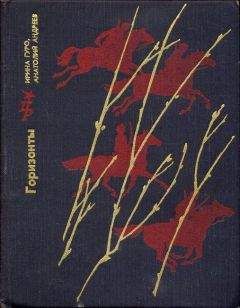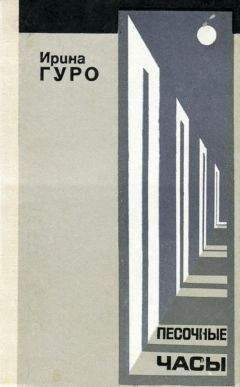Елена Гуро - Небесные верблюжата. Избранное
А сколько плакал он там по ночам, один, кусая подушку. — Он был в это время счастлив?
Потом, взрослый, он приходит ко мне и говорит: «Я встретил ее, — я чувствую, что это она! Отчего же она меня не узнала? Почему, мама, это не может никогда быть взаимно?»
Что я могу сказать ему?
Твоя девушка? Да она полюбит моего Васю! Васю с застенчивым лицом и доверчивыми глазами и болтающего неловко руками-граблями… Но тебя «выправили», мой милый, и я сама едва узнаю тебя! — Ты выправился и стал молодцом! Ты, мой чиновник особых поручений! Любовь, — Она, Солнце, луг, речка. — Нет, теперь ты это оставь, теперь ты просто сделай приличную партию!
Товарищи, друзья! — Зачем?!. У тебя всегда и везде найдутся сослуживцы! Зачем тебе призвание? У тебя будут очередные награды, повышения по службе. Перед тобой расстилается не луг, мой милый, а служебная карьера или коммерция — как мы для тебя мечтали…
Что ж, ты теперь, верно, счастлив?
Где твоя улыбка?
Вечернее
Покачнулося море —
Баю-бай.
Лодочка поплыла.
Встрепенулися птички…
Баю-бай,
Правь к берегу!
Море, море засыпай,
Засыпайте кулички,
В лодку девушка легла,
Косы длинней, длинней
Морской травы.
· · · · · · · · · ·
Нет, не заснет мой дурачок!
Я не буду петь о любви.
Как ты баюкала своего?
Старая Озе, научи.
Ветви дремлют…
Баю-бай,
Таратайка не греми,
Сердце верное — знай —
Ждать длинней морской травы.
Ждать длинней, длинней морской травы,
А верить легко…
Не гляди-же, баю-бай,
Сквозь оконное стекло!
Что окошко может знать?
И дорога рассказать?
Пусть говорят — мечты-мечты,
Сердце верное может знать
То, что длинней морской косы.
Спи спокойно,
Баю-бай,
В море канули часы,
В море лодка уплыла
У сонули-рыбака,
Прошумела нам сосна,
Облака тебе легли,
Строются дворцы вдали, вдали!..
Разложили костер на корнях и выжгли у живой сосны сердцевину.
Кто? Не знаю.
Дерево с тяжелой кудрявой головой, необъятной жизненной силы
— держалось на трети древесины, уродливо лишенное гордого упора и равновесия.
Было очень тихо. Обреченное на медленную смерть, дерево молчало. Несомненно, оно знало, что ему сделали, — и окружавшие его товарищи молчали. И было неприятно и тяжело видеть выражение его головы с могучими сучьями, как тяжело видеть среди жизни очень здорового человека, которого временно отпустили, но через срок неизбежно назначено повесить, и он это сам знает, и окружающие, и все молчат…
Назад шел вырубкой.
Злобишься ли ты, лес, когда вершины, что привыкли ходить в небе,
— слушать сказания созвездий и баюкать облака, — падают оземь и оскверняются человеком? Нет, ты перерос возможность злобы. Я так же перерос мою злобу, но мне очень тяжело.
На берегу две сосны божественного происхождения. Их немного склоненная втянутость вытерпела рыцарское напряжение на посту. В их отданных ветру ветвях запуталась прибрежная печаль.
* * *Несомненно, когда рыцарь печального образа летел с крыла мельницы — он очень обидно и унизительно дрыгал ногами в воздухе и когда упал и разбился, — был очень одинок.
Как хочется иногда ласки! Я мечтаю: и вот, вдруг, он попал бы в этом состоянии к русской Мавре, к настоящей нашей полевой русской Мавре, уж она бы ему примачивала, перевязывала, приговаривала:
«Ах ты, мой болезный! — Эх ты, роженый! Тебя тоже мать родила, сосунка глупого качала, горя не знала, а ты квакал, да сосал, да гулькал!»
А над морем, где-то далеко на севере, гнулись бы тростины, мокли да сохли бы чалки-чалки. Кричали чайки-чайки!
* * *Он доверчив, —
Не буди.
Башни его далеко.
Башни его высоки.
Озера его кротки.
Лоб его чистый —
На нем весна.
Сорвалась с ветки птичка —
И путь несется,
Моли, моли, —
Вознеслась и — лети!
Были высоки и упали уступчиво
Башни!
И не жаль печали, — покорна небесная.
Приласкай, приласкай покорную
Овечку печали — ивушку,
Маленькую зарю над черноводьем.
Ты тянешь его прямую любовь,
Его простодушную любовь, как ниточку.
А что уходит в глубину?
Верность,
И его башни уходят в глубину озер.
Не так ли? Полюби же его.
Когда он уже слег, — он все повторял: — Нет, я знаю, я не рыцарь, я просто Алонзо Добрый! — И просил у них прощение, что беспокоил их своим безумием. Его утешали и забавляли, его называли нарочно: Рыцарь!
Как погремушку, ему это вернули теперь, когда он все равно слег и умирал. «Ну, напоследок пусть поиграет бедняк своей мечтой!»
— Нет, я не рыцарь. Вы образумили меня, я ведь знаю, теперь я уже не безумец-гордец, — я просто Алонзо Добрый.
«Спи болезный», — от ласки не знает, что сказать, старая.
«Какие у тебя уши-то смешные, долгие, не как у других…
Какой же ты худой-то, ребра-то все торчат!» — И за ухом ему потрет и за ухо потянет.
— Отдыхай, на здоровьице…
Гуль, гуль,
Песочек солнышком горит,
Гуль-гуль, курлы-курлы,
Гуль-гуль, — песочек крупный
Гуль-гуль!
— Мама, а Дон Кихот был добрый?
— Добрый.
— А его били… Жаль его. Зачем?
— Чтобы были приключения, чтоб читать смешно.
— Бедный, а ему больно и он добрый. Как жаль, что он уже умер. А он умер давно?
— Ах, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Дон Кихота не было никогда.
— А зачем же написали книжечку тогда? Мама, неужели в книжечке налгали?
— Ты мешаешь мне шить, пошла спать.
— Если книжка лжет, значит, книжка злая. Доброму Дон Кихоту худо в ней.
А он стал живой, он ко мне приходил вчера, сел на кроватку, повздыхал и ушел…
Был такой длинный, едва ногами плел…
— Леля, смотри, я тебя накажу, я не терплю бессвязную болтовню.
* * *Мир был прост и ласков, как голубь, и если б его приголубили, он стал бы летать.
Но его запрягли в соху, заперли в тюрьму, и он стал торжищем и торговой казнью для простодушных, нежных и любящих.
* * *Шел дождь, было холодно. У вокзала в темноте стоял человек и мок. Он от горя забыл войти под крышу. Он не заметил, как промок и озяб. Он даже стал нечаянно под самый сток…
Он не заметил, что озяб, и все стоял, как поглупевшая, бесприютная птица, и мок. А сверху на него толстыми струями, пританцовывая и смеясь, лилась — вода…
Дня через три после этого он умер.
Это был мой сын, мой сын, мое единственное, мое несчастное дитя.
Это вовсе не был мне сын, я его и не видала никогда, но я его полюбила за то, что он мок, как бесприютная птица, и от глубокого горя не заметил этого.
* * *И так нежен и милосерд этот вечер с высоким задумчивым лбом, что, право, он заслужил, чтобы его наказали за милосердие и сострадание, и любовь. Чтобы его больно наказали за его высоту и чистоту.
И так же имел право быть распят этот нежный вечер, похожий на весну и на далекую позабытую родину души…
* * *Подошел к молодому безумцу мудрец и спросил его: «Какое имеешь ты право сметь?» Мальчик отвечал дерзостью: «Мне приходится сметь, потому что вы все слишком много умеете!»
А за дерзость ему связали за спину руки и отняли у него солнце. И отняли у него голубые небесные луга с белыми утренними барашками… И вместо всего мира дали на всю жизнь темный, сырой, каменный ящик…
Он больше уже не видел солнца. — Да это же был мой сын, мой сын!.. Нет! но того из мальчиков земли, с кем это сбудется, — я люблю, как сына.
* * *Жил-был еще один мальчик, нежный, застенчивый, чистоплотный, аккуратный…
Но он посмел жалеть и любить, и от жалости он становился смелым — и за это его взяли, как преступника, и увели от матери…
В первый раз он очутился без нее.
Его страданья, неженки, брошенного в каземат, — были ужасны, и он мучился тем еще, что был одинок в своем страданье, его лишения были больнее лишений неряшливых, грубых преступников, почти не замечавших грязного режима тюрьмы. Никто этого не понимал и никому до этого не было дела.