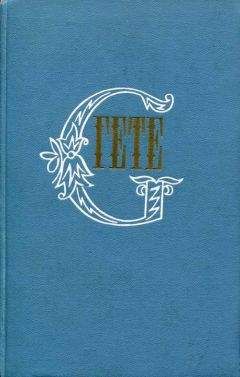Антология - Западноевропейская поэзия XХ века
ДОРА МАРКУС
IЭто было недалеко от моста,
ведущего к порту Корсини, там, где редкие
гребцы, почти неподвижные, перебирают
веслами. Ты мысленно видела другие места
и указывала рукой на другой,
невидимый берег — твою настоящую родину.
Потом мы проплыли каналом до городской
верфи, лоснившейся от копоти, —
туда, где на глубоководье тонула
ленивая, с короткой памятью весна.
И здесь, где древняя жизнь
с игрою красок ее
исходит тоской по Востоку,
твои слова переливались, как чешуя
умирающей краснобородки.
Твоя тревога напоминает мне полет
птиц, разбивающихся о вышки
маяков вечерами в бурю.
Твоя нежность — та же буря, она бушует,
хоть и знать о себе не дает,
да и реже случаются ее передышки.
Не понимаю, где силы ты берешь,
притом, что озеро сердца твоего
зыбь равнодушия покрыла. Быть может,
все — амулет, который ты хранишь
с пуховкой рядом и губной помадой:
мышонок белый из слоновой кости.
Так и живешь!
Теперь у себя в Каринтии,
где мирты цветут над озерами,
ты из окна глядишь,
как пасется коза-трусиха,
как над липами, между скатов
крыш, поднимается вечер,
как ложатся на воду вспышки
веранд и пансионатов.
Сумерки стуком моторок
и криком гусей над водою
будят воображенье.
И белые стены рассказывают
историю светлых ошибок
зеркалу, видевшему твое
прежнее отраженье,
и зеркало впитывает ее,
так что стереть — невозможно.
Легенда твоя! Но вспомни-ка:
полны легендою той же
на больших золотых портретах
взгляды мужчин с надменными
и жалкими бакенбардами.
И ее воскрешает вечер,
едва заиграет гармоника,
а вечереет все позже.
Вот она. Вечнозеленый
лавр для приправ остается.
Не меняется голос.
Далеко до Равенны. Яд
источает жестокая вера.
Что нужно ей? Неизменны
голос, легенда ль, судьба…
Но поздно. Чем дальше, тем позже.
«Увидеть бы тебя…»
Увидеть бы тебя — надежда эта
все убывала;
и я тогда сказал себе: а вдруг
то, что тебя упорно заслонило,
имеет нечто общее со смертью;
а может, в нем твое, но искаженное,
сиянье вдалеке
(меж портиками Модены
лакея волочили два шакала
на поводке).
БУРЯ
Les princes n’ont point d’yeux pour
voir ces grand’s merveilles,
Leurs mains ne servent plus qu’a nous persecutes.
Agrippa D’Aubigne. A Dieu[159].Раскаты мартовских громов и пляска
тяжелых градин на мясистых листьях
магнолии
(звенит стекло, и этот звук тебя
застиг врасплох в твоем ночном гнезде,
где золотом, которое потухло
на красном дереве и на обрезах
переплетенных наново томов,
горит все так же сахара крупица
в ракушке глаз твоих),
слепительная молния,
застигшая деревья и строенья
в той вечности мгновенья (мрамор, манна
и разрушенья), помнить о которой
ты приговорена, которой больше
мы связаны с тобою, чем любовью,
гораздо больше, странная сестра,
и систры звон, грохот тамбуринов,
и холод рва, и шаркающий шаг
фанданго, и над всем —
хватающие руки…
Как тогда,
когда ты уходила насовсем
и, облако волос со лба откинув,
махнула мне — чтобы ступить во мрак.
СЛОВЕСНАЯ ДУЭЛЬ I
«Арсенио[160], — она мне пишет, — должна признаться,
здесь, в этом кипарисном холодке,
мне кажется, что время отказаться
от глупого отказа от иллюзий,
навязанного мне тобою; что время
расправить паруса и крест поставить
на epoche[161].
Не говори о черных временах — мол, показательно,
что трепетные горлицы уже направились на юг.
Жить памятью и впредь — уволь, мой друг.
Нет, лучше хлад небытия, чем это
твое оцепенение лунатика
или проснувшегося слишком поздно».
(Письмо из Азоло.)
Едва минула юность, я был брошен
до половины жизни в ад навозный —
владенья Авгия.
Там не было волов, не обнаружил
я и других животных;
но в тесноте проходов, где навоза
все прибавлялось, спирало дух от вони
и с каждым днем все громче, все неистовей
звучали человеческие вопли.
Он не предстал ни разу.
Но выродки с надеждой ждали,
готовя к смотру полные воронки,
шампуры, вилы, смрадные рулеты.
Однако не однажды
давал возможность Он полюбоваться
то краем мантии своей, то маковкой
короны, оставаясь
за черным бастионом из фекалий.
С годами — да, но кто еще считал
сезоны в этом мраке? — чьи-то руки,
искавшие незримые просветы,
вернули к жизни память: локон Джерти[162],
кузнечик в клетке, Любины следы —
последняя дорога, микрофильм
барочного сонета, оброненный
уснувшей Клитией, неугомонный
цокот сабо (прислуга-хромоножка
из Монгидоро);
веер автомата от щелей
нас отгонял, усталых землекопов,
застигнутых на месте преступленья
тюремщиками нечистот.
И наконец паденья шум — не верится.
Чтоб нас освободить, сведя подкопы
в один поток, взбешенному Алфею
мгновения хватило. В ком надежда
еще жила? Неужто отличалась
от грязи грязь? и новым смрадом легче
дышалось? разве разнились паромы
от нужников? и этот грязный сгусток
над трубами, быть может, был светилом?
и муравьи на пристани людьми,
быть может, были без всяких скидок?
(Думаю, что больше
ты не читаешь. Но теперь ты знаешь
все обо мне —
чем жизнь в неволе, чем потом была;
теперь ты знаешь: мышь родить не может
орла.)
«Без очков, без антенн…»[163]
Без очков, без антенн,
горемыка букашка, носившая крылья
исключительно в воображенье,
по листкам распадавшийся Ветхий завет,
достоверный
лишь отчасти, полночная чернота,
вспышка молнии, гром — и потом никакого
урагана. Неужто
ты ушла столь стремительно, не проронив
ни единого слова? Но разве у тебя еще
были уста?
«Мы придумали для потустороннего мира…»
Мы придумали для потустороннего мира
условный свист, чтоб не разминуться.
Я пробую воспроизвести его в надежде,
что все мы умерли, не подозревая об этом.
«Америндийцы, если б ты…»
Америндийцы, если б ты,
спасенная из омута, попала к ним,
в растительные дебри, куда все глубже
они уходят, избегая белых, —
небесные бы эти существа
тебя увешали дарами потрясающими,
хотя твои глаза и не раскосы.
Из поколенья в поколенье бегство
их продолжается. Твое, недолгое,
тебя из тьмы спасло или из острых
когтей, в которых ты была заложницей.
И телефон отнюдь не обязателен
теперь уже, чтоб говорить с тобой.
БЕЗ ОХРАННОЙ ГРАМОТЫ
Не знаю, избежала ли Ханна Кан
кремационной печи.
Она заходила несколько раз
в подвал, где я прозябал,
и я приглашал ее ужинать в другие «берлоги»,
чтоб говорить о тебе.
Она утверждала, что вы подруги, я в это нимало не верил
и правильно делал за неимением вещественных доказательств:
писем или верительных грамот.
Она тебя видела в лучшем случае
мельком — со мной, без меня на Скарпучче
или на склоне Святого Георгия с его золотым истуканом.
Она не обиделась. Позже я потерял ее из виду.
Если она угодила в пучину, сомнительно, чтобы и тут
для нее оказался спасительным твой, для меня безупречный,
passepartout[164].
ОПИСЬ