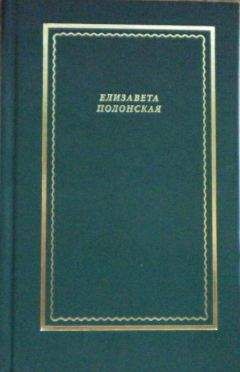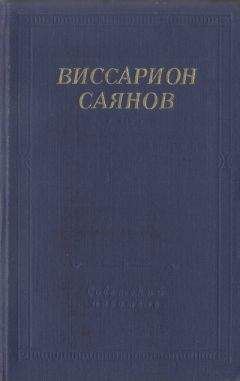Андрей Грицман - Вариации на тему. Избранные стихотворения и поэмы
Северный Мэйн
За Бангором длятся перегоны,
как радиоволны, за границу.
А оттуда пахнет хвойным лесом
и эспрессо, и «Наполеоном».
Пробегают к гибели олени.
Голубика виснет, словно Кольский.
Все плывёт на фоне бледно-синем —
ткань мазков глубоких, но не резких.
Брошенные лесоразработки,
домик Легиона в паутине.
Шоферюги пьют, как в Мончегорске,
у костров – и поджигают шины.
Tлен. В ничьих садах дичают души,
глубина амбаров пахнет гнилью.
Сыпятся бобровые плотины,
и грохочет лесовоз всё реже.
«Дизель», «Субмарины» и «Оружье»,[2]
перекрёсток, лавка и шлагбаум.
Дальше от дороги гул всё глуше,
тише будет в доме деревянном.
Выйдешь: осень с выдохом морозным.
Чудится, что Фрост
хрустит в лесу, бормочет.
Даллас
Это было в городе одного убийства.
Там дороги дышат густым мазутом.
Парусина неба над чахлым лесом.
Духота, как слизь, даже ранним утром.
Безымянных прерий безмерна зона,
и прогоркла почва, но нефтеносна.
Из низин выдувает память, но
виснут дыма обрывки на ржавых соснах.
Далеко до Багдада, и звёзд не видно.
Но ночами ясно, что после жизни
так и будет. Угрюмо молчит Отчизна,
и койоты рыщут по балкам гиблым.
Только вдаль пролетят светляки на джипах,
опалённые едким мескитным ветром.
И зовёшь сам себя один до хрипа,
но беззвучным криком на пару метров.
Здесь оружье в чехлах готово к бою
незабвенным правом свободных граждан
на защиту дома и утоленье жажды
и на небо, что нехотя служит кровом.
Там я думал о дальнем, детском праве
на потерю дома, на запах дыма,
на дыханье ночью той, что слева,
вдруг сказавшей моё, засыпая, имя.
Футбольное
Валентину Бубукину,
бывшему капитану московского «Локомотива»
Осиротели поля в тишине удушающей лета.
Кончились игры, и гулко оглохли трибуны.
Всё исчезает: хот-доги, доходы, и слава
к Богу летит на боинга блещущих крыльях.
Камеры гаснут, пустеют поля из асфальта.
Кубок футбола наполнила страшная крепость.
В ней Марадона растаял в клубах эфедрина.
Как далеко его бросила ты, Аргентина!
Помню, когда-то я, маленький (горло в ангине),
жадно следил в Подмосковье за летом в Стокгольме.
Ни о стокгольмской постели, ни о «Красной пустыне»
я и не знал, да и не было их и в помине.
Юный Пеле комком сухожилий и крови
шведам грозил, никогда не прощая ошибки.
Но и тогда по трофейному радио слепо
мы распознали рисунок его кольцеваний.
Франц Бекенбауэр, Круиф и Чарльтон точнейший,
мудрый Копа, Поркуян и тигр с Куры, Метревели.
Ткань бытия истончается на заветном диване.
Кончилось время игры, и экран в электронной метели.
Что же мы здесь разорались на дальней окраине мира,
в странной стране феминисток, стряпчих, бейсбола, —
им не понять угловой и стремительный дриблинг.
Имя твоё для них звучит полосканьем, Бубукин!
Братья-болгары, вашу я стойкость восславлю.
Не устоял перед вами железный германец.
Сербы-коммандос стреляли по небу, покуда британец
и галл смирно следили за ходом ристалищ.
В этой стране мы – как орден, масонское братство.
Что им молитва Ромарио после смертельного танца.
А уж до конной милиции у стадиона «Динамо»
им – как до лампочки в склепе родного подъезда.
Помнишь, врывались с мячом мы со снежного поля
выпить воды из-под крана, пьянея от тестостерона.
Мы, повторяю, посланцы незримой державы.
Кончилось время игры, и под рёв стадиона
Баджио гордый упал в траву Пасадены!
Письмо от Нэнси
Моя жизнь протекает как обычно:
заботы, поддержание очага, борьба со стихией.
Жуки поели настурции,
которые я бережно растила из семян.
Пришло время сбора нападавших яблок.
Они лежат вперемешку
с замёрзшими мышиными тушками,
добычей нашего кота.
Сколько ни сгребай листву,
земля становится жёлто-бурой к утру,
будто никто тут никогда и не жил.
Последнее время ветры вносят полный хаос,
газон усыпан сломанными ветвями и похож
на перекопанное кладбище деревьев.
Холодная ранняя осень нагрянула,
и теперь кажется, что мы проведём остаток жизни
на дне истлевающего лиственного моря.
Однако отъезд и побег от домашних забот
никакого покоя не сулят:
одевать детей, наскоро есть
в придорожных кафетериях, переругиваться
с мужем в машине по поводу семейного бюджета,
сдерживать мочевой пузырь до последнего,
съезжать с шоссе в незнакомые городки,
спрашивать дорогу у местных жителей,
заглядывать в их глаза, жалеть их
за то, что у них такая жизнь,
как и они, наверное, жалеют нас за нашу,
лежать в ничьей постели в мотеле
ночью с открытыми глазами,
сквозь наглухо закрытые окна
осязать запах стерильных поверхностей,
мёртво-синего квадрата воды во дворе,
слушать дыхание большой реки,
несущей свои воды
среди незримых тёмных холмов
до самого конца,
туда, где начинается бесконечность,
где океан сливается с небом,
тлеет восход и где не надо
вставать утром и будить близких.
Ночь
Часа в четыре,
когда уснули мысли о налогах,
о подвигах, о доблестях, о сексе,
возникнут в предрассветных городах
и в отдалённых весях
и поплывут невидимые волны.
Они пройдут по сумрачным хайвеям и разобьются,
как школьниками битые бутылки,
только бесшумно.
Бомжи зашевелятся
и захрипят на рваных одеялах.
Патруль очнётся в дремлющей машине,
коснётся рации и кобуры.
В «колониальном» доме, третьем с краю,
постройки девятнадцатого года
она во сне вздохнёт и улыбнётся,
протянет руку: три часа,
а через три часа, когда
Pink Floyd взорвёт эфир
на середине длинного аккорда —
она проснётся и подарит день
ещё двум-трём привычным подопечным,
озябшим за ночь.
* * *
Отчаяние
отходит слоями,
кожурой печёного яблока.
Вот тебе и семейная жизнь,
оладьи, яблочный пирог,
остывающий на скамье. Осень
шелестит жестью. Пространство,
разрезанное хайвеем,
заваливается в Нью-Хемпшир.
Дартмут – холодный кристалл —
застыл посредине.
Дитя неизвестное
смотрит в свою жизнь
из ниоткуда. А пока
подайте алкашу
на вечернее веселие.
Верней, на заклание —
подателю сего, того-сего,
на трансатлантическом расстоянии.
До первой метели,
когда отчаяние
завалит его всего.
* * *
Я её знаю давно,
ещё до первого выбора,
до шапочного разбора.
Родное, родина, родинка.
Вот мой дом,
вот моя родина:
стрелка, развилка.
Чай остывает.
Моросит.
Спаси, Господи,
раба твоего
ото всего.
Ей-богу, это не я —
это судьба,
переодетая контролёром
в вагоне. Следующая станция —
Скоротово.
Риголетто
Как там, опера? Нет, оперетта:
ядовитый горбун в мешковине.
Опереточный Риголетто
перед залом скучающим стынет.
Ему скучно влачиться без дочки,
старику, к колокольне высокой
и звонить о своей недотроге —
о гордыне своей одинокой.
Дочка чудная хочет на воздух,
задыхаясь от пыльного света.
Будь что будет, а что будет после:
окончания нету в либретто.
Он, горбун, жаждет герцога крови
в полутьме, в подземелии тусклом.
От реальной, сверкающей боли
на полу театральные блёстки.
Нету крови, лишь перхоть да копоть,
бледный стон стариковской гордыни.
Затерялись в подвале глубоком
песни герцога, и рядом с ними:
хлам родительский, копии писем —
педантичная страсть каллиграфа.
Под чернильной поверхностью спеси —
водянистые призраки страха.
* * *