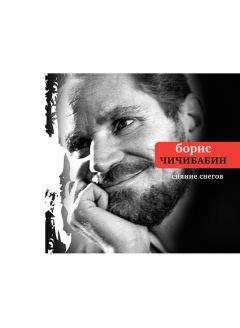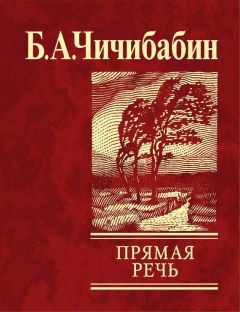Борис Чичибабин - Собрание стихотворений
Посвящения
(из прижизненных изданий и публикуемые впервые)
СЛОВО О БУЛАТЕ{378}
Хвалюсь не языком,
не родом, не державой,
а тем, что я знаком
с Булатом Окуджавой.
Он скромен, добр и смел
и был на фронте ранен,
а в струнном ремесле
никто ему не равен.
Хоть суета сует
свои соблазны множит,
он — истинный поэт,
а врать поэт не может.
Когда лилась ливмя
брехня со всех экранов,
он Божьей воле внял,
от бренного отпрянув.
Во лжи срамных годин
(а дело не за малым)
из сонма он один
остался не замаран.
Не самохвал, не шут,
как многие другие, —
раскрытый парашют
у падавшей России.
Я чокнусь за него
с друзьями веком об век:
мне по сердцу его
интеллигентский облик.
Не шут, не самохвал, —
как воду из колодца,
он любящим давал
уроки благородства.
Не ластился к чинам,
не становился в позу,
а честно сочинял
свои стихи и прозу.
Не марево кадил —
лирическая малость, —
он с ней в сердца входил,
и жизнь переменялась.
Мы верили ему,
бродя по белу свету,
как верят своему
любимому поэту.
Гнездо разорено,
и брат идет на брата,
а мы-то, все равно,
поклонники Булата.
Я с песнями его,
любя, полжизни прожил, —
для сердца моего
нет музыки дороже.
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
С ЛЮБИМЫМ АРТИСТОМ
И СКРОМНЫМ АВТОРОМ В УГЛУ{379}
По голосу узнанный в «Лире»,
из всех человеческих черт
собрал в себе лучшие в мире
Зиновий Ефимович Гердт.
И это нисколько не странно,
поскольку, не в масть временам,
он каждой улыбкой с экрана
добро проповедует нам.
Когда ж он выходит, хромая,
на сцену, как на эшафот,
вся паства, от чуда хмельная,
его вдохновеньем живет.
И это ни капли не странно,
а славы чем вязче венок,
тем жестче дороженька стлана,
тем больше ходок одинок.
Я в муке сочувствия внемлю,
как плачет его правота,
кем смолоду в русскую землю
еврейская кровь пролита.
И это нисколько не странно,
что он той войны инвалид,
и Гердта старинная рана
от скверного ветра болит.
Но, зло превращая в потеху,
а свет раздувая в костер,
он — выжданный брат мой по цеху
и вот уж никак не актер.
И это ни капли не странно,
хоша языка не чеша,
не слушая крови и клана,
к душе прикипает душа.
Хоть на поэтической бирже
моя популярность тиха,
за что-то меня полюбил же
заветный читатель стиха.
В присутствии Тани и Лили
в преддверье бастующих шахт
мы с ним нашу дружбу обмыли
и выпили на брудершафт.
Не создан для дальних зимовий
воробышек-интеллигент,
а дома ничто нам не внове,
Зиновий Ефимович Гердт.
БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ{380}
Простите, что с опозданьем.
Каким я добром казним!
Когда-нибудь сопоставим,
обдумаем, объясним!
Но в данную нашу бывность
у Господа меж людьми простите,
что не любил Вас,
упорствуя в нелюбви.
Простите мою виновность,
которой с души не снять,
надменнейшую готовность
не слышать и не узнать.
За то, что мы разны слишком
и разным идем путем,
влюбившись по первым книжкам,
я Вас разлюбил потом.
Наветами бед навьючась
и в свой же ступая след,
я Вашей струны певучесть
отверг на исходе лет.
Но верю, что в этом больше
несчастия, чем греха,
узнав лишь из кары Божьей,
как Ваша душа тиха…
Еще говорят, Вы пьете
и плоть не вольны бороть,
и спьяну в лихом полете
проветриваете плоть.
И брешут еще сладимей,
что Вы, разогнув тетрадь,
играете со святыней,
а с нею нельзя играть.
Мы рады причине всякой
унизить Господний свет:
ведь мерзостно быть писакой,
когда перед ним — поэт.
Начхать мне на все на это!
Духовность — не поле битв.
Не может поэт поэта,
услышав, не полюбить.
О девочка, русской ранью
к притихшему, словно тать,
ко мне прикоснитесь дланью,
чтоб рыцарем Вашим стать.
АЛЕКСАНДРЕ ЛЕСНИКОВОЙ{381}
Пью за Хьюза, Хикмета и Гарсиа Лорку,
за бессмертную душу и черствую корку
вместе с добрым вином, чей крепителен норов,
спирт воловьей работы и бешеных споров.
За стихи, что от шпиков таились под спудом,
за пропавших во тьме и за выживших чудом,
за влюбленных пришельцев из лагерной школы,
чудаков с чердаков, чьи певучи глаголы,
за дарующих радость везде и всечасно,
за тебя, раз ты к этому делу причастна,
и, запомнив навек горячо и подробно,
за твою красоту, Александра Петровна!
Нас печали качали и грозы растили.
Хорошо, что мы — дети метельной России,
но не худо и то, что у солнца и сини
нам сподобилось жить на степной Украине.
От бедовых голов далека беззаботность.
Нас пугает покой, неизвестность зовет нас.
Но, волнуясь, не раз припаду и присяду,
и послушаю русскую Шехерезаду.
О, язычница Севера, ясное чудо!
В наши трезвые сны ты зачем и откуда?
Как поют нам твой голос, осанка и облик!
Ночь запутала хмель в волосах твоих теплых.
О тебе не умолкнут хмельные помины
в миллионах сердец россиян с Украины,
не забудет никто, перед памятью жалок,
как любили тебя в переполненных залах.
Неуклончивый друг мне судьбою подарен,
и за дружбу с тобой я судьбе благодарен,
и люблю твой талант, задушевный и вещий,
и свищу тебе в лад свои лучшие вещи.
БОРИСУ НЕЧЕРДЕ{382}
Я в этом не участвовал,
не ведал добра там.
Лишь одно счастье,
что встретился с собратом,
что, злой и худой,
стихи мне читал
борец с нищетой
Борис Нечерда.
Не подал гроша черни,
не труся, не шепча,
напомнил про Шевченко —
поэта мужичья.
В комнате подвальной
хворые дерзали,
хворост подваливая
под державу.
Спичками чиркали,
купол проклюнув,
как будто из цирка
пара клоунов.
Ждали неуклончиво,
с кем бы силой меряться.
Не горюй, хлопче!
Всё перемелется!
Не траться по волынкам.
В народ себя оттисни.
Быть тебе великим
поэтом Отчизны.
АКАДЕМИКУ А. Я. УСИКОВУ{383}
Во дни сомнительных торжеств
я славил разум человечий.
О, знал бы я, чего предтечей
окажется сей раб и лжец!
Но будет прок ли хоть на грош,
коль на него досаду выльем,
кому обязаны обильем
разврат, насилие и ложь.
Смирясь, над тем не зубоскаль,
пред чем века благоговели.
Однако ж, был умен Паскаль
и был умен Макиавелли.
Ведь как ни лют геенский мрак
тех лет, что нам на одре снятся,
а все же, надобно признаться,
что даже Сталин не дурак.
Сказать про главное нельзя,
и я молчанья не нарушу,
но ум опережает душу,
по грани опыта скользя.
Вся наша будущая тьма,
все наши бреды, наши муки —
плоды бессовестной науки
и бессердечного ума.
Мы не взываем и не ропщем,
нам остается водку пить
да в обалдении всеобщем
конец всемирный торопить.
* * * Александр Яковлевич{384},
милый человек,
Вам стоять на якоре
весь остатний век.
Вы — мудрец и праведник,
и душой дитя,
Вам поставят памятник,
лик позолотя.
В мире электроники
Вы из первых звезд.
А мои поклонники —
кто куда из гнезд.
Но сквозь всю зашарканность,
но сквозь всю муру,
почему так жалко Вас,
сам не разберу.
В тьме, хоть очи выколи,
после лютых гроз
Вы науку двигали,
а куда — вопрос.
Но, куда б ни метили,
юный и седой,
вышли в благодетели
при науке той.
В развеселом зареве,
в потайном аду
хорошо плясали Вы,
да под чью дуду?
Лучше в ночи царственной,
сердце затая,
с Дней Александровной
слушать соловья.
Ах, вчера ли, ноне ли,
да и то едва
Вы впервые поняли,
чем душа жива.
Не в плену палаты ли,
встав из-под ножа,
Вы лишь чуть поладили
с тем, чем жизнь свежа,
в той больной беспечности
ощутив впотьмах
дуновенье вечности
на своих щеках…
Академик Усиков,
говорю всерьез:
есть на свете музыка,
воробьи, Христос.
Перед рыжей белкою,
стрекозой с листа,
ах, какая мелкая
наша суета.
Я люблю Вас, мальчика
до седых волос,
с кем дружить заманчиво,
да не довелось.
Не делами жаркими
мудрость весела,
оттого и жалко мне
Вашего чела.
Лучше б Вы поездили
в мире, не спеша,
удивясь поэзии,
воздухом дыша.
Есть ли что исконнее
синевы небес,
городов Эстонии,
кафедральных месс?
Вы ведь тоже можете
вечность напролет
разбираться в Моцарте,
пить Платонов мед,
слушать речь кукушкину
и, служа добру,
поклониться Пушкину
в смоляном бору.
Я люблю Вас, рыцаря,
чей задумчив лоб,
жду Вас — в книгах рыться ли,
спорить ли взахлеб.
Да смешно надеяться,
что, пришедшись впрок,
голосок на деревце
пересилит рок.
Вам не сняться с якоря,
не уйти в побег,
Александр Яковлевич,
милый человек.
НОВЫЙ ГОД С АЛТУНЯНОМ{385}
Я не видел выхода на лицах
и смотрел на берег сквозь туман,
где светился притчей во языцех
легендарный Генрих Алтунян.
Мы взялись, как братики за ручки,
и смеялись в добром забытьи,
когда ты вернулся из отлучки,
где тебя держали взаперти.
А пока прикладывался к пайке
и месил за проволокой грязь,
о тебе рассказывали байки
и молва на крылышках неслась.
Но не стоит мир своих пророков,
он под ребра холодом проник.
Для твоих рассчитанных наскоков
не осталось мельниц ветряных.
В душный век Освенцимов и Герник
с высей горных сходит Новый год.
За кого ж нам в бой помчаться, Генрих?
Что нам делать в мире, Дон Кихот?
На кого нам духом опираться?
Ни земли, ни солнышка вдали.
Разбежалось рыцарское братство,
сожжены мосты и корабли.
Разольют последнее по чаркам,
золотые свечи отгорят.
Ты затихнешь мудрым патриархом
с бородой, как снежный Арарат.
Но живут азарт и ахинея,
и веселье ходит вкруг стола,
и с любовью смотрит Дульсинея
на твои гремучие дела.
Не по мне хмельное суесловье,
но в начале пьянки даровой
за твое кавказское здоровье
я с усердьем выпью, дорогой.
ИОСИФУ ГОЛЬДЕНБЕРГУ{386}
Там, где Оки негордый брег
погребся в гуще трав,
живет Иосиф Гольденберг,
по школьной кличке — Граф.
Глотая скудную еду,
какую Бог пошлет,
ни у кого ни на виду
он в радости живет.
Бывало, пер и на рожон,
латал забот костюм,
но, в чтенье книжек погружен
и в созерцанье дум,
живет, не славен, не высок,
в зеленом городке,
его серебряный висок
с добром накоротке.
И от него благая весть
по душам разлита
о том, что в мире темном есть
любовь и доброта.
О, что нам родина и век,
когда восходим вверх,
мой самый лучший человек —
Иосиф Гольденберг?
Течет, мерцая и звеня,
старинная стезя.
Какое счастье для меня
что мы с тобой друзья!
Постой под светлым сквозняком,
полнеба облетав.
Я столько лет с тобой знаком,
что счету нет летам.
Смотрю: ни капли не устал,
тоска — не по устам.
Ты сам судьбу свою создал
и ей владыка сам.
Труби ж в ворожущий рожок,
сзывай живых к себе,
смирёныш, мальчик, малышок
и граф своей судьбе!
Молюсь, чтоб Божий свет вовек
в твоей душе не смерк,
мой самый лучший человек —
Иосиф Гольденберг.
Да канут в даль злодей и враль,
зане кишка слаба,
и уведет достойных в рай
небесная нежба.
В сердцах заветное храня,
летим — ребро к ребру.
Какое счастье для меня,
что я тебя люблю!
КОСТЕ ГРЕВИЗИРСКОМУ{387}
Что снится юношам Руси,
когда исполнилось шестнадцать?
Им города чужие снятся
и звезды жаркие вблизи.
Им снятся гордые царевны,
дороги, грозы, паруса,
и благодатный и целебный
над ними дождик пролился.
Добро, племянник Константин!
Не мальчик ты уже, а юнош,
со злом по-взрослому воюешь,
ветрами мудрыми студим.
Держись, чтоб в горе не поник,
как дуб за землю, ты за книги.
О, как несчастны горемыки,
не разумеющие книг!
Люби певучие слова,
учись добру, не бойся века:
роднее книг у человека
ни друга нет, ни божества.
Что молодым до холодов?
Им всё к лицу, им всё во благо:
и ум, и совесть, и отвага,
и к обездоленным любовь.
Шестнадцать лет — не трали-вали.
А всё ж, племяш, не забывай,
как мы когда-то открывали
боров пахучий каравай,
как было нас тогда четыре,
и мы не ведали беды,
и рощу пятками чертили
до родничка Сковороды,
как были мы в гостях у леших,
и как, не делая вреда,
варили с бульбами кулешик
у бабаевского пруда,
как мы у каждого куста
хватали воздух ртом и носом,
а впереди визжал и несся
веселый песик без хвоста,
как он пугал чужих мальчишек,
и как, презревши всех подлиз,
мы над костром из красных шишек
дружить до гроба поклялись.
С тех пор мы связаны обетом,
костра того не погасят.
Не забывай, племяш, об этом
ни в двадцать лет, ни в пятьдесят.
И дядька я, и книгодар,
а всё походы наши снятся.
Да будет нам всегда шестнадцать,
а паразитам — никогда.
* * * Здравствуй, душенька с телешком{388}
и телешко с душенькой!
Здравствуй, Дусенька с Олежком
и Олежек с Дусенькой!
Оба мы, насупя брови
с окаянна горюшка,
шлем вам две свои любови
с окияна-морюшка.
Наше вечное спасибо,
из любви отлитое,
что живете в три погиба,
но с душой открытою.
Наше вечное спасибо,
пусть хоть мир обрушится,
за все ночи недосыпа,
доброты и дружества.
Толи круг нам очертили,
толи так положено, —
почему нас не четыре
на земле Волошина?
Хоть проводим жизнь с другими,
умствуя и шастая,
есть у нас святое имя:
Дусенька Ольшанская.
И, сбежав от тех попоек,
что с собой не возятся,
обнимаем вас обоих
и целуем во сердце.
Я молюсь, чтоб без усилий
хорошо жилося вам,
но притом не всё в России
мнилось в свете розовом.
От обиды и обузы
бытия лохматого
облегчи вам души, музы
и княжна Ахматова.
Жить вам век в ладу со словом
писаным и баяным
и скучать по встречам новым
с вашим Чичибабиным.
* * * От старых дружб ни славы, ни следа{389} —
так круг их редок,
а ты мне друг, пока течет вода
в сибирских реках.
Когда в тоске не думал ни о ком,
не звал кого-то,
светила мне плакучим огоньком
твоя забота.
И в черный час к звонку твоих дверей
гнала година,
и совпадала боль моя с твоей
бедой, Галина.
Так жили мы, с судьбою не мирясь,
и так молчали,
и только в рюмках чокались не раз
вином печали.
Теперь летишь к лебяжьим рубежам —
лети ж легко ты.
О, только б век тебя не обижал,
не гнули годы.
Последний круг страданий и забот
сполна изведан,
и ты мне друг, пока душа живет
добром и светом.
* * * Высох колодец. Не стало вина{390}.
Чаша пропала.
Что тут поделаешь? Наша вина,
Саша Хрупало.
Спать не дает нам ночная беда
в мире жестоком.
Вспять не польется речная вода
к первоистокам.
Все в этой жизни имеет конец —
худо и благо.
Брось хорохориться, щедрый скупец,
праздный деляга.
Враль ты ужасный и той же порой
правды искатель.
Кто нам в бессмертие скажет пароль?
Море — из капель.
Что ж теперь каяться? В бездне любой
небо таится.
Зло стережет нас, и только любовь
не повторится.
Близких дороги расходятся врозь,
Саша Хрупало.
Высох колодец. Вино пролилось.
Чаша пропала.
ПАМЯТИ ШЕРЫ ШАРОВА{391}
Что мы добры, что воздух юн и вязок,
тому виной не Шера ли Шаров,
кто нам вчера переизданье сказок
своих прислал и пару добрых слов?
Он, в смене зорь, одна другой румянче,
средь коротыг отмечен вышиной,
он весь точь-в-точь мечтатель из Ламанчи,
печальный, добрый, мудрый и смешной.
В таком большом как веку не вместиться?
Такую боль попробуй потуши!
Ему претит словесное бесстыдство,
витийский хмель расхристанной души.
Зато и нам не знать мгновений лучших,
чем те, когда, — бывало, повезет, —
и к нам на миг его улыбки лучик
слетит порой с тоскующих высот.
Клянемся мира звоном и блистаньем,
листвой дубов, где нежится гроза,
что не разлюбим и не перестанем
смотреть в его прекрасные глаза.
Как говорит он про детей, про женщин!
Как ложь сердец душе его тяжка!..
Нельзя о нем во времени прошедшем!
Но черный час настал исподтишка.
И в этот час пришла беда такая,
что у меня и слова не нашлось
ее назвать, потере потакая,
и мир померк от Аничкиных слез…
А он, как мальчик, робок и огромен,
и нет на лбу короны золотой, —
и не чудно ль, что мы его хороним,
а он, как свет, над нашей суетой?
Поплачь, земля, и Аничка[6], поплачьте,
но, опустив повинные венки,
взовьется флаг на поднебесной мачте
и мир прочтет его черновики.
Хоть он попал не в царство доброй феи, —
какая жизнь! И что сказать о ней,
когда она, что день, то всё живее
и с каждым годом выше и юней?
Не прах, а Дух, — не смирен, не покоен.
Не был, но есть, — ни смерти, ни суда.
Вот он стоит, и видят все, какой он, —
печальный, добрый, мудрый, — навсегда.
ПАМЯТИ ЗАРЫ ДОВЖАНСКОЙ{392}
Зара Довжанская — множества жизней легенда,
звонкое имя, как зорюшка, зримое всеми,
свет и отдушина пасынка — интеллигента
в самое темное, самое затхлое время.
Юной и званной попала она в катастрофу —
выжила чудом и в чем только воля осталась.
Тут и смириться бы ей подобру-поздорову,
но для души не удел инвалидность и старость.
Ветром имперским ее до бессмертья продуло,
в жертвенных жилах тоска от базарного жира.
Стала судьбой ее русская литература,
сколько к ней душ приохотила, приворожила!
Помню жила она где-то, как птица, под крышей,
там и узнал, восхищеньем немым переполнен.
Так уж случилось, что тайны ее не открывши,
я разминулся с ее победительным полднем.
Нынче жалею, да что ж теперь, Господи Боже!
Не был чужим ей, а близким назваться не смею.
Лиля, любовь моя, с Зарой дружила, но позже
мы почему-то почти не встречалися с нею.
Синь Коктебель ее с заревом утра в заливе,
замыслы Зарины шепчет поэзия трав нам.
Въяве ж не встретим. Отмучилась. В землю зарыли.
Свеж ее дух, неподвластный болезням и травмам.
Слышу ее, отзываюсь ей, за словом шастая.
Не был ей другом, зато уж теперь не поссорюсь.
Зара Довжанская, — молвлю, — заря слобожанская,
вечны тобой благодарные память и совесть.
РАЗДЕЛ 2