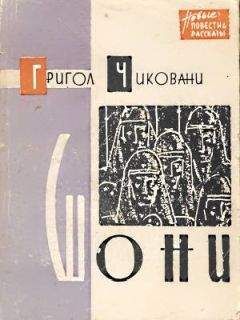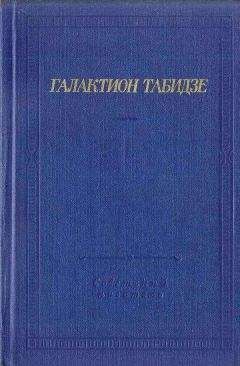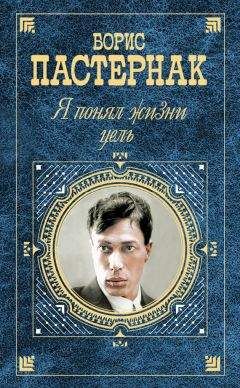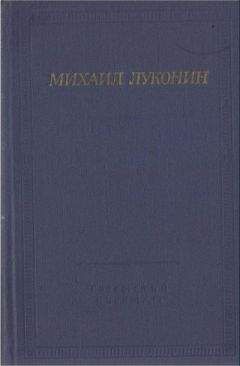Симон Чиковани - Стихотворения и поэмы
…Низами запретили сочинять стихи на родном языке, и он писал свои произведения на персидском.
Из биографии НизамиЗдесь Низами покоится в могиле.
Я подошел над прахом погрустить.
Ночные тени камень окружили —
Хотя бы с ними мне поговорить!
Он был певец добра, любви и света —
Таких цари не терпят при дворе.
В земле Ганджи спокоен сон поэта,
О нем вздыхает нива на заре…
Гончар и жнец, не мог он не трудиться;
Владыка знал, как наказать певца,—
Мол, твой язык для песен не годится —
Петь по-персидски будешь до конца!
…Родные звезды мне светили в детстве,
Мне пела мать: «Гори, люби, живи!
В круговороте радостей и бедствий
Сложи молитву жизни и любви!»
Я свято чту источник вдохновенья,
Я не забыл грузинской «наны» слов,
Зажженная с ее благословенья
Горит над Картли радуга стихов!
Но Низами не слышал «наны» старой…
Судьба к нему неласкова была.
Он гордо спит под вечною чинарой,
Тень невесома — вечность тяжела…
Когда б века не стали между нами,
Язык картвелов он бы полюбил,
Я Низами осыпал бы стихами,
Я по-грузински с ним бы говорил!
Язык отцов! Он суть души и тела,
Я все невзгоды вынести готов,
Чтоб надо мной родное небо пело
На языке родных колоколов.
Пусть мал мой сад, жилье мое убого,
Не опечалюсь этим ни на миг:
Судьбою мне даровано так много —
Есть у меня грузинский мой язык!
Пред Низами я голову склоняю.
Шуршит листва, текут над ним века…
Не мог поэт — я это твердо знаю —
Забыть слова родного языка.
Просвета нет в моей судьбе —
Скитанья, слезы, маета,
И только память о тебе
Свежа, целительна, чиста.
Я утомлен, я изнемог,
Но не забыл тебя, поверь…
Мне жалкий бросили цветок —
В Гандже чиновник я теперь!
Как видно, звари мой заглох
И скорбный ветер бытия
Не донесет мой тяжкий вздох
В одишские твои края.
____
Здесь крутизна такая над Курой!
Чреда видений в памяти теснится:
Закатный час, рояль волшебный твой,
Похожий на взлетающую птицу.
Уснувших струн теперь не разбудить.
Незримый ворон каркает угрюмо.
Молю тебя: позволь мне разлюбить!
Освободи мечты мои и думы!
Прорвись, рыданье, душу просветли,
Закат сквозь слезы кажется алее.
Шуми, Ганджа, забытый край земли,
Срывай листву с деревьев, не жалея!
Там крутизна такая над Курой…
В груди остывшей пламя не родится.
Молчит рояль, рояль волшебный твой,
Похожий на подстреленную птицу.
Погасла заря, в небесах над Курою унынье,
Ликует Ингури, волной ледяною звеня:
Там муж твой и дом, там твой жребий счастливый отныне,—
Судьбе повинуясь, ты скоро забудешь меня.
Умолк соловей, цинандальскую розу сорвали,
И горной реке за твоим не угнаться конем —
Он скачет по ниве моей безысходной печали.
Как в сердце темно, сколько боли и горечи в нем!
Ты мчишься по роще, твой ястреб ревнивый с тобою,
Немым изваяньем застыл у тебя на руке.
Что письма мои? Не надеюсь, не спорю с судьбою.
Как сердце болит, как темно от тебя вдалеке!
Умчался скакун — даже топота больше не слышу,
Тебя не догнать — мы с тобою как нечет и чет.
Твоя красота мне на гибель ниспослана свыше —
В ней счастье и мука, и ранит она и влечет.
* * *
Мост висячий рухнул в бездну,
В роще трель не раздается,
Ждать и грезить бесполезно:
Нет любимой. Не вернется.
Горечь яда, вкус шербета —
Всё узнать придется ныне.
В бурку ночи даль одета,
Нет луны и звезд в помине —
Ревность, ревность!
Нет просвета
В чернотканой паутине.
…Роща, старая чинара,
Конь стремительно несется,
Твой платок — язык пожара —
Вместе с гривой Лурджи вьется.
Мочка уха розовеет —
С нею роза не сравнится!
Ястреб — как он только смеет! —
На плечо твое садится.
Ты его ласкаешь нежно —
Я от ревности немею…
Беззаботна, безмятежно
Едешь ты тропой своею,
Все привычны повороты,
Все шелковицы знакомы,
Заждались тебя с охоты,
Без тебя тоскуют дома!
Вниз с холма тропа сбегает,
Всё вокруг — любовь, цветенье!
Дома розу окружают
Поклоненье, восхищенье!
Ты желанна, ты любима…
Ты — Нестан? Этери? Кто же?
Весела, неутомима…
Прядь волос — на дождь похожа.
Дома — взоры бирюзовы,
Сколько ласки в них таится!
Лишь в меня они готовы,
Словно жала пчел, вонзиться.
Бровь — стремительнее лани,
Губы — алый сок кизила!
Твоего очарованья
Искра — песней в небо взмыла!
Не пришелец я безродный!
Тень твою обнес оградой —
Хочет быть она свободной!
Ты не даришь даже взгляда…
Значит, вновь тоска и бденье,
Снова боль, стихи, разлука.
Сердце жаждет исцеленья —
С каждым часом горше мука.
Ночь надеждой не согрета,
Навсегда прощай отныне!
Горе, горе! Нет просвета
В чернотканой паутине.
Мне приснился Кабахи прохладный,
В узкой улочке дом рыбака,
Над Метехи простор неоглядный,
И звезда, и под кручей река.
Та же тонэ в низине пылала,
Был хабази знакомо усат,
Только песня дрозда не звучала —
Почему-то безмолвствовал сад.
Вдаль река бриллианты катила,
Гиацинт был приветлив со мной;
И еще мне приснилась могила —
Вожделенный приют над Курой.
Эти горы, созвездий цветенье —
Лик Тбилиси, черты божества!
Слышу родины благословенье,
Повторяю молитвы слова:
Я увижу тбилисские зори —
Упрошу на коленях судьбу!
Будет травами ветер Коджори
Шелестеть у Мтацминды на лбу!
Дай, Тбилиси, покой и прохладу,
Туч отару развей, размети,
Одари пестротой листопада,
Лавашом от души угости!
Напиши надо мной послесловье —
Скоро кончатся странствия дни…
Посади гиацинт в изголовье,
Добрым словом меня помяни.
Думал, думал, снова думал…
Лурджу в луг пустив зеленый,
Сел в густой тени под дубом,
Как Спаситель утомленный.
Оросил совсем недавно
Теплый дождик травы в поле.
Он вздремнул легко и славно,
Незаметно, поневоле.
А когда проснулся — дали
В тень ушли. Угрюм и черен,
Дуб над ним поник в печали,
Меж ветвей виднелся ворон…
Захотелось ежевики;
Поискал вокруг на ощупь —
Пусто. Глухо. Дали дики.
Рядом — призрак синей рощи.
Снова мысли — в темя, в темя:
Встать, вернуться в дом убогий!
Свистнул Лурджу — ногу в стремя
И помчался по дороге.
Вот и липа, а за нею
Край селенья — всё в порядке!
К людям? Поздно, не успею…
И — свалился в лихорадке.
Жар больного застал нераздетым…
Сплел бесенок из пряди волос
Узкий мост между тьмою и светом
И в сознанье сумятицу внес.
Мир оделся в цветастые ткани…
Он подумал сквозь жар и озноб:
«Мне б воды в запотевшем стакане
И возлюбленной пальцы на лоб…
Значит, жизнь сиротливо дотлеет?
Кто прогонит несносный кошмар?
Гонча-бегум войдет, пожалеет,
Капель даст — и понизится жар.
Стала комната душной парильней…
Как же имя ее? Маико…
Как велик этот камень могильный —
Сдвинуть с места его нелегко!
Хоть бы каплей воды причаститься…»
И вошел, как священник, рассвет,—
Может быть, наконец прекратится
Невозможный горячечный бред,
Он оближет иссохшие губы,
Лбом почувствует ласку росы…
Каркнул ворон с далекого дуба,
Возвещая забвенья часы.
Опять лихорадит. Тетрадка упала,
Тоску навевает убожество стен,
Еще и не осень, а роза увяла,
До времени жизнь превращается в тлен.
Душа — словно сад после адского града…
Как жарко… Но утро белеет в окне —
Евфимия, мать! Исцеленье, прохлада,
Войди, наклонись надо мной в тишине.
Мне снится — на родине нива не сжата
И Грузии раны клюет воронье…
Стократной любовью разлука чревата —
Не выдержит бедное сердце мое!
Прощайте, прощайте, Атени и Ксани,
Тропы недоуздок над пеной реки,
Навеки скрывается Картли в тумане
И прячутся в недра земли родники.
Душа наполняется звуками «наны»,
Я слышу шаги Маико за дверьми…
Кончается жизнь до нелепости рано —
Я столько бы мог, я в долгу пред людьми!
Где милые лица? Чадры надоели —
Кружат мотыльками в ночи за окном…
Как жестко, как душно, как Страшно в постели —
Что шепчет чинара, тоскует о ком?
Я прожил недолго. Я старым не буду.
Куру завалил, заглушил листопад…
А утро бледнеет, свершается чудо —
Евфимия! Мать! Я блаженством объят.
Полегчало ему на мгновенье, —
Но недуг спохватился — и снова
Подозренья, тревоги, прозренья
В полутьме обступили больного.
Забытье исцеленью равнялось
И — пришло…
К вечереющей выси
По тропинке Нино поднималась,
Под горой расстилался Тбилиси.
Без креста из лозы виноградной
Шла она — воплощенье печали,
Овевал ее ветер прохладный,
Листья, с вишен слетая, встречали.
Плющ разросся, плиту обнимая,—
Здесь бы впору пернатым гнездиться!
Что она говорила, живая,
Чем пришла с неживым поделиться?
Листья падали, тень наползала,
Уступала Мтацминда захвату —
Обреченно гора остывала,
Склонов жар отдавая закату,
Пал туман на владения тени…
Плющ могильный Нино приласкала.
Преклонив перед мужем колени,
Что ему по-грузински сказала,
Что поведала, в чем укорила?
Был в Гандже тихий голос не слышен,
Только солнце на миг озарило
Сад с последними каплями вишен…
Сон растаял к досаде больного,
Явь и жар подступили к постели,
Но присутствие жара иного
Ощутил он в измученном теле,
Он подумал: «Что слава земная?
Дай, Мтацминда, мне место на склоне,
Там, где плющ и свеча восковая,
Я усну у тебя на ладони,
Пусть Нино приведет на закате
Катину в одеянии вдовьем.
О, достоин ли я благодати —
Слез ее над моим изголовьем?»
Всё было синим в этом сне:
И липа у ворот, и храм,
Я на лазоревом коне
Хотел подняться к облакам,
Я слышал зов, но конь стоял,
И я стегнуть его не мог,
И синий вечер наступал,
И путь лежал еще далек.
Я не пошел молиться в храм,
Мне липа тени не дала.
Прильнула скорбь к моим губам,
Дыханьем сердце обожгла,
Я дальше брел, в груди больной
Неся губительный ожог,
Лазурный омут надо мной
Сиял, спокоен и высок,
Он звал, но я взлететь не смел —
Коня давно со мною нет.
Со старой липы лист слетел.
Мой сон утратил синий цвет.
Постель? Или жизни и смерти весы?
Безводным колодцем ганджинская мгла
Казалась больному… Тянулись часы,
Тетрадка ладонь ослабевшую жгла.
За медом пчела прилетела к душе —
Напрасно, ей нечего было собрать…
Пустыня, шурша, подступала к Гандже,
С деревьев листва поспешала слетать.
Глухое безмолвье царило вокруг,
Зияла гнетущая пропасть окна.
Пастушья собака залаяла вдруг,
Но лаем своим поперхнулась она.
Луна непохожа была на луну —
Лучом, словно когтем, царапала грудь…
Но колокол храма разбил тишину.
Мерани! Еще не закончился путь!
В верийском саду над туманной рекой
Глядел он парому отплывшему вслед,
И новые строки рождались для той,
Что ворона камнем спугнула… Но нет —
К больному в постель этот камень упал,
Зажат он в руке, как пустой кошелек.
С чинары серьгу ветер смерти сорвал…
Как горный родник безнадежно далек!
Хотел приподняться, но силы ушли.
Как исповедь, имя ее прошептал.
Умолкли стихи, под подушку легли —
Он камнем могильным подушку считал.
Приблизились стены жилища к нему,
На миг ослепив, почернело окно.
Спокойно сходя в беспредельную тьму,
Он знал, что увидеть зарю не дано.
Он, праздности чуждый, не ведал покоя,
Но сердце устало гореть и страдать,
Он умер в Гандже, и осталась тетрадь —
С тоскою о Картли, с последней строкою.
Он сам подбирал по порядку листы,
Обвязывал думы тесьмою печали,
Безжалостно пальцы ему обжигали
Любовь и страданья, тоска и мечты.
Как будто молебен закончился в храме —
В груди замолчали стихи навсегда.
С деревьев текла дождевая вода.
Стук сердца казался твоими шагами.
В бессонном борении с грозной судьбой
Как ждал он рассвета! Но тьма победила.
Он тихо в Гандже опустился в могилу,
Оставив тебе небосвод голубой.
Останки его приютила чужбина…
Рыдала ли ты над ингурской волной?
Забытый тобою, смертельно больной,
Тебе он молился в минуту кончины!
Он предан земле. Но стихи не молчат!
Стихи о разлуке, о небе отчизны,
О сломленном дубе, о смерти и жизни —
Пусть гордое сердце твое обвинят:
Ты душу его обрекла на мученья,
У Злобного духа не став на пути,
Могла только ты исцелить и спасти —
Его погубило твое отреченье!
В Гандже подвела лихорадка итог
Невзгод и страданий в земной круговерти.
В наследство тебе он оставил бессмертье —
Как нежную рану, как робкий упрек.
Примечания