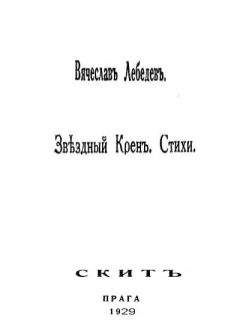Олег Малевич - Поэты пражского «Скита»
ПРИЗРАК
Казалось — не брит был, а вправду — непризнан
и беден диковинно: от пиджака
потертого и — до потери отчизны,
почти до потери души…
Под жука
брюзжал и, назойливый, злясь и тревожась,
и чувствуя: больше так вчуже-невмочь,
он рос, до рассвета блуждая, до дрожи, —
как дождь взбудоражив бессонницей ночь.
Рассвет начинался простыми стихами,
в которых он жил на ходу — невпопад —
и слушал эпохи глухое дыханье —
как мокрые окна открыто храпят.
Душа незаметно терялась: взамен
ей стихи изо рта выходили, как пар. —
Там холодно было, где в недоуменьи
и вслух — сам с собой разговаривал парк.
— Как заспанно время, и, люди, теперь вам
уже не увидеть за тяжестью век —
он мается в мае, дыша двадцать первым,
иль воздух его — восемнадцатый век.
— Он, может быть, был бы тогда Калиостро
(искусства чудачить не стать занимать),
певучий, огромный, блуждающий остров,
— о, певчая жизнь! — не пора ли устать?..
Что делать, — какой небывалою силой
вернуть ему мир ваш, как детство, как миф.
Как пусто еще, как заря исказила
черты его, до крови рот закусив…
И с солнцем, осунувшись — в синей молочной
построчной невнятицей грудь утолив, —
заоблачный, легши и, верно, заочный
плыл призрак наверх, — машинально, как лифт.
MOMENT MUSICAL[101]
В. Н. О-вой
Застенчивость (как голос за стеной,
пониженный от нежности и страха
быть обнаруженным), но взгляд: стальной
и клятвенный…
О, сладостней, чем бархат,
когда сползает с белого плеча,
струясь и ластясь, медленно прохлада,
и, звонкой ласточкою трепеща,
над шлейфом флейта вьется между складок.
И музыка сквозь ночь — обнажена.
Освобожденный голос, весь снаружи —
как взгляд твой клятвенный, расширенный от сна
и отрезвляющий, как ужас.
Застенчивость: за стенкой. Буквари
ресниц и снов — мечтателю застенок.
— Стенографически (не претворив)
бессмертной нежностью записанная тема.
СЕРЕНАДА
Ночь в окне отстоялась,
рассеяв дремоту
обезволенных, настежь распахнутых глаз.
А в гостинице негр
перелистывал ноты
и упрашивал скрипку,
чтоб спать улеглась.
Было видно:
сверкающий рот на эстраде,
изумленно счастливый смычок у плеча.
И боясь,
что небесную силу растратит,
билась музыка,
в черных руках трепеща.
Но уже расстилалась по окнам прохлада,
в мокром небе цвела,
лиловея, сирень.
Завоеванный, —
голос твоей серенады
день приветствовал пеньем
рассветных сирен.
…От любви,
залетевшей к тебе ненароком —
словно музыка
в сонный измученный мир, —
я тебя не берег:
так повелено роком —
что смычок только
скрипке желанен и мил.
«Листья падали. И каждый самураем…»
Листья падали. И каждый самураем,
желтый и сухой, стыл в траве ничком.
Дачи шли вдали и тихо замирали,
Ночь текла лирическим сверчком.
Сад был звонкой выдумкою Гоцци
и, как именинник, оживлен.
Облако болтало у колодца
о Египте с гибким журавлем.
В озерке сверкали зеркалами —
лубочными — лунные лучи.
(Сад был в общем вправду), но,
как на рекламе
летнего курорта, нарочит.
И молниеносно просветленным телом
ты туда входила с легкостью ведет.
Пела и смеялась: ты красив, Отелло…
— Мгла кренилась белой яхтой на воде.
Плыл сверчок контролем из глухой таможни,
лирикой беспечной трели уснастив.
И уже, казалось, было невозможно
мачты, снасти и мечты снести.
Смерть жила в саду, как в пистолете,
миг еще — и хлынет из ствола.
Пролетело лето. Шли столетья.
Ты, как на эстраде, умерла.
А к рассвету с ним совсем неизъяснимо
связанный и вновь как незнаком,
мир был странно скучен (неудачный снимок
дач, пронзенных первым сквозняком).
БЕССОННИЦА У ОКНА
Ночной квадрат. — Ночной туман в Палермо
сейчас растет, перерастая грусть.
…Я подымусь, и вздрогну, я — наверно —
как лермонтовский парус — испарюсь.
Мир на столе еще упорен в споре
с полуночью, что плещет и зовет.
— Душа сжимается — и мысли в сборе,
как экипаж — приветствуя полет.
Как бьют часы. И с неба, словно с моря,
сейчас прохладой звездною пахнет.
…В ночной квадрат, в сияющую прорубь,
освободив от призрака окно.
Как бьют часы. Как мощно мир утратить,
как жест высок! — Божественно скорбя,
туман растет.
Туман в пустом квадрате
перерастает самого себя.
«Розовощекий выбритый восторг…»
Розовощекий выбритый восторг
еще не встал и не прочистил горла.
Но — дальновидный — чокался восток
с зарей, а та кровоподтеки стерла
с разбитых стекол. —
Жил гудок
таким особенным смятеньем,
что изумленный водосток
воспринял эту жизнь, как пенье;
и вдруг, совсем сойдя с ума,
с крыш расплескав рукоплесканья,
забыв, что на дворе зима
и все равно земля — в тумане.
День начался, как всякий день,
лечилась скука между строчек.
И по обманутой звезде
шел непредвиденный рабочий.
Нам терпеливый сон врожден.
И жизнь текла по водостокам
ночным и мелочным дождем,
и медленной слезой — по стеклам.
И все же: где-то меж ветвей
из рощи брошенной отчизны
манифестально соловей
пел, как Гомер, о первой жизни.
«Может быть, одолеет…»
Может быть, одолеет.
Может быть, обойдет.
Может быть, пожалеет.
Может быть, и добьет.
Может быть, не измерить,
Может быть, не избыть.
Может быть, надо верить.
Может быть, может быть…
Может быть, только птицы…
Может быть, все мертво.
Может быть, все простится.
Может быть, ничего.
Алла ГОЛОВИНА*
ОСЕНЬЮ
Стелет хвоя повсюду жало,
Золотятся в лесу откосы,
Это солнце порастеряло
За июль и за август косы.
Кто-то маленький, быстроногий
Отпечатал смешные пятки,
Где сбежались на склоне дороги.
Словно розовые закладки.
Укрываясь порой за пнями.
Наступая на сыроежки,
Прибежали к пушистой яме
Веерами следы-мережки.
И сегодня почти что жарко,
И пальто волочится даром
Под сквозною сосновой аркой,
Тонко пахнущей скипидаром.
Только вечером белой тиной —
И как мертвые змеи долог —
Нерасчесанной паутиной
Разлетится туманный полог.
Одиноким прищурясь глазом,
И заброшенней, и короче.
Месяц будет тупым алмазом
Резать стекла холодной ночи.
И за душное злое лето
Станет сразу заменой дикой
Неживая березка эта
И колючая ежевика.
НОВОГОДНЕЕ ГАДАНЬЕ