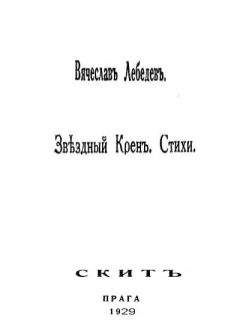Олег Малевич - Поэты пражского «Скита»
«Был твой предок монголом раскосым…»
Был твой предок монголом раскосым,
он к холодным равнинам прирос, —
у боярышни желтые косы, —
будет тестем великоросс.
Разве можно запомнить приметы
всех кровей, все твои племена?!
Пусть глаза твои синего цвета.
Но темна твоя кожа, темна.
И поляки, и немцы, и греки
забредали в устойчивый род.
Замерзали и таяли реки,
ты любил голубой ледоход.
И на лучшем славянском наречьи
признавался ты в первой любви,
был метелями путь твой помечен
в перемешанной темной крови.
Те сугробы, тот северный город
называл ты коротким — свое…
По плечу тебе было и впору
горделивое это житье.
И теперь, уживаясь с чужими,
как медали — седой ветеран,
ты хранишь свое русское имя
под личиною — эмигрант…
Владимир МАНСВЕТОВ*
ДУША
Ты медленно подходишь к изголовью,
в твоих глазах уверенность и грусть.
Ты освящаешь мукой и любовью
слова, заученные наизусть.
Суля невероятную разлуку,
твой голос убедителен и прост,
когда ты странно поднимаешь руку,
касаясь ею самых дальних звезд.
Пусть медлишь ты, полузакрыв ресницы,
настанет час, расправивши крыло,
душа легко от тела отделится,
и станет жалко, пусто и светло.
ЛЕТО
Солнце в комнате, и запах скуки,
тянет гарью солнечной из кухни.
И трясутся сморщенные руки
страшной и пронзительной старухи.
Сквозь окно веселый переулок
смотрит суетливыми глазами,
как, откинувшись на спинку стула,
девочка следит за облаками:
высоко над сонным небосклоном
пролетают крыльями большими.
Возле стула четко и влюбленно
заводная кукла пляшет шимми.
Желтой розой солнце зацветает
на ладони розовой и пухлой. —
Девочка смеется и не знает,
ангелом ей сделаться иль куклой.
На прохладном тающем закате
перед чашкой с золотистым чаем
будет думать о красивом платье
и об этом непонятном рае.
Ночью ей приснится много кукол
и большие ангельские крылья.
А к старухе ночью выйдет скука,
прорастая сыпкой дряхлой пылью.
И опять, склоняясь к изголовью,
ей покажет в скомканном конверте,
кажется, написанное кровью —
Божие свидетельство о смерти.
ВИДЕНЬЕ ПЕРВОЕ
А. Вурму
Когда бледнели улицы от зноя
и таяли в сверкающей пыли,
и все: несбыточное и земное,
пьянело от дыхания земли;
когда струился из пылинки каждой
густого солнца благодатный сок
и в небесах, изнеможенных жаждой,
лазурь была похожа на песок;
когда сыпучей и палящей синью,
играя жарким золотом подков,
в незримые блаженные пустыни
шли караваны вольных облаков;
суровый зной по крышам раскаленным
бродил, сухими крыльями шурша,
и как всегда — в раздумьи полусонном
неясным счастьем бредила душа,
а сны кружились голубиной стаей,
мелькающей у самых облаков, —
вдруг растворилась тишина густая
и утонула в рокоте шагов.
И, обожженные нуждой и зноем,
они прошли смеющейся толпой;
но блеск лопат пронзил тупым покоем
провалы глаз, задернутых тоской.
Мелькнула терпеливая усталость,
засохшая на лицах, как загар.
И чья-то жизнь средь улиц расплескалась,
наполнив гулкой бранью тротуар.
Они прошли нестройно и крикливо,
и шум затих медлительно вдали.
Лишь запах лета, извести и пива
еще клубился в солнечной пыли…
Бледнели улицы. И небосклоном
шли облака легко и не спеша.
И как всегда — в раздумьи полусонном
неясным счастьем бредила душа.
«Костел, как демон, каменные крылья…»
Костел, как демон, каменные крылья,
застыв, простер в торжественную высь,
где в облаках над площадью и пылью
века и сны мучительно сплелись.
На паперти в привычном благочестьи
народ глядит, как ржавчиной зарос
и молится — из золота и жести —
упрямый и доверчивый Христос.
Сухие дни, заглядывая в окна,
проходят тихо; а в вечерней мгле
сияющие тянутся волокна
от синих звезд к морщинистой земле.
Однообразно тают черепицы
раздавленных веками низких крыш. —
В опустошенном мире даже птицы
тягучую не прерывают тишь.
Лишь сгорбленные сказкой многолетней,
склоняя в такт пустынные очки,
старухи вяжут медленные сплетни
и чудом превращают их в чулки;
лишь, к пыльным чувствам сердце приохотив,
на тротуар готический старик
из острых и растрепанных лохмотьев
уронит изредка протяжный крик;
да голос вечности в часах старинных
расскажет воздуху и тишине
о пухлых непроветренных перинах,
о крепком задыхающемся сне.
И страшно под чужими небесами
душе, всегда глядящей с высока,
от мертвых лет с дремучими глазами
и возгласов немого старика.
«В ночь — наощупь, — там воздух в бреду…»
В ночь — наощупь, — там воздух в бреду, —
и, пульсируя звонко повсюду,
льется музыка, моя в саду
полутьмой голубую посуду.
Наобум, сквозь бормочущий гам,
где, дремоту смутив, оробели, —
в кружевах хроматических гамм
бродят возгласы чуткой капели.
В ночь, где после дождя… И твои,
по весне возбуждая, как лозунг, —
голосисто листву напоив,
ночью плещутся певчие слезы.
— Небывалой, разбухшей от слез,
по аллеям вслепую прочмокав, —
просветленной, что — встав во весь рост, —
там вздыхает легко и глубоко.
— Той, что плачет, поет и зовет,
— той, что втайне и как из-под спуда, —
Маргаритой влюбленной живет
под фарфоровый звон незабудок.
И откуда капель, как толпа,
расплескавшись, разбудит предместье, —
где овации ветра со лба
вытрет алым платком капельмейстер.
«Ритмично капала с пера…»
Ритмично капала с пера,
и лихорадочно сверкучей
вдруг взвинченная, как спираль,
неслась молниеносно к туче.
Но возвращалась. И была,
исполненной тоски и молний,
холодной темой для баллад
и героически безмолвной.
Под абажуром без труда
вмещалась; и жила бессонно,
— И пахло в комнатах тогда
весной, духами и озоном.
И чище снов, и чаще дат,
уже похожая на жалость, —
но неожиданной всегда
и вовремя, как смерть, — являлась.
Мне — мук трагических балласт —
сквозь вздохи и отдохновенья
и примечтавшись, не сбылась,
как лучшее стихотворенье.
ПРИЗРАК
Казалось — не брит был, а вправду — непризнан
и беден диковинно: от пиджака
потертого и — до потери отчизны,
почти до потери души…
Под жука
брюзжал и, назойливый, злясь и тревожась,
и чувствуя: больше так вчуже-невмочь,
он рос, до рассвета блуждая, до дрожи, —
как дождь взбудоражив бессонницей ночь.
Рассвет начинался простыми стихами,
в которых он жил на ходу — невпопад —
и слушал эпохи глухое дыханье —
как мокрые окна открыто храпят.
Душа незаметно терялась: взамен
ей стихи изо рта выходили, как пар. —
Там холодно было, где в недоуменьи
и вслух — сам с собой разговаривал парк.
— Как заспанно время, и, люди, теперь вам
уже не увидеть за тяжестью век —
он мается в мае, дыша двадцать первым,
иль воздух его — восемнадцатый век.
— Он, может быть, был бы тогда Калиостро
(искусства чудачить не стать занимать),
певучий, огромный, блуждающий остров,
— о, певчая жизнь! — не пора ли устать?..
Что делать, — какой небывалою силой
вернуть ему мир ваш, как детство, как миф.
Как пусто еще, как заря исказила
черты его, до крови рот закусив…
И с солнцем, осунувшись — в синей молочной
построчной невнятицей грудь утолив, —
заоблачный, легши и, верно, заочный
плыл призрак наверх, — машинально, как лифт.
MOMENT MUSICAL[101]