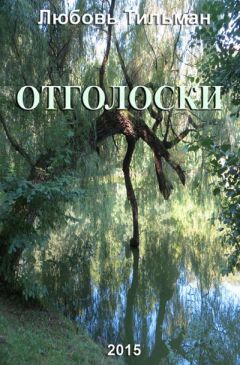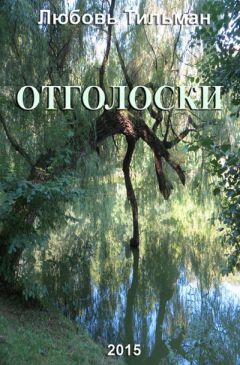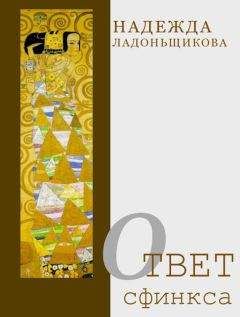Автор неизвестен - Европейская поэзия XVII века
ЮНИЕ ПАЛМОТИЧ
СКОЛЬКИМ КАЖДЫЙ ОБЯЗАН РОДНОЙ ЗЕМЛЕНет земли на свете равной
той земле, где ты рожден,—
чтить ее — твой самый главный,
самый праведный закон.
Для тебя да будет свято,
как семья, отец и мать,
место в мире, где когда-то
начал ты существовать.
У земли родимой много
сильных, смелых сыновей,—
все мы преданы, как богу,
общей матери своей.
На ее защиту встанем,
жизнью мы не дорожим,—
хоть сейчас существованьем
ей пожертвуем своим.
Ею мы живем и дышим,
бережем, как мать свою;
чести нет святей и выше —
пасть за родину в бою.
Нет на свете большей славы,
всем пожертвовать, что есть,
для родной своей державы,
за ее святую честь.
Тщетно счастья добиваться,
дорожить добром своим,
если общие богатства
мы не ценим, не храним.
Как мы плачем, как мы ропщем,
вдруг теряя свой кусок,
но ведь только во всеобщем
и свое бы ты сберег.
Если б край родной великим
не связал единством нас,
мы зверям подобны диким
оставались бы сейчас.
Все и почести и блага
только тем всегда желай,
кто с бесстрашьем и отвагой
защищал родимый край.
Славой вечною покроем,
что небесных звезд светлей,
мы того, кто пал героем
ради родины своей.
Жить рабом, с петлей на шее,
принимая зло за власть,—
это в сотни раз страшнее,
чем в бою свободным пасть.
ВЛАДИСЛАВ МЕНЧЕТИЧ
Я в огне, моя царица.
Кто узнает, что — причиной?
В тайнике души хранится
страсть моя к тебе единой.
Я не выдам даже взглядом,
как люблю, как сердце жалишь.
Сотни вил со мною рядом,
в жизни, в сердце — ты одна лишь.
На других гляжу упорно,
вздохи шлю, шепчу признанья,
стражду, гибну — все притворно,
ты одна — мое страданье.
По тебе одной скучаю,
постоянство паче плена.
Многим вздохи расточаю,
только сердце неизменно.
Страсть всегда сильна обманом,
завлекал я многих в сети,
но в любви был постоянным,
но люблю одну на свете.
Если любви предается вила,
только милого не любя,—
значит, она красоту осквернила
и убивает сама себя.
До тебя ей что за дело?
Ты страдаешь, — ну и что ж?
Сердце в ней окаменело,
И его не разобьешь.
АНТУН ГЛЕДЖЕВИЧ
Мара в поселке Игало
сеть для угрей расставляла,
как их вернее поймать,
знает умелая мать.
Лопуд им стал тесноват,—
в город на Плаце спешат,
может быть, выпадет счастье,
рыбу поймать позубастей.
Но неприятно смотреть, —
что попадается в сеть?
Пригоршни грязного ила…
Удочка сеть заменила.
Удочкой цепкой и меткой
в двери попали к соседке.
Эта соседка была
женщиной их ремесла.
Щедрый улов был нежданным,—
с чисто французским приданым…
Что же поделаешь тут?
Сети, конечно, сгниют.
Эта старческая проседь
обличает возраст твой,
и тебе пора бы бросить
притворяться молодой.
Тусклый взор остекленелый
холодней потухших свеч,—
мечет смерть амура стрелы,
чтобы страсть в сердцах зажечь.
Не надейся, — ни единый
в целом мире не придет
целовать твои морщины
и вкушать увядший плод.
Кто целуется с тобою?
Впалых губ ужасен вид,
а за пазухой такое,
что посмотришь — и стошнит.
Для былой твоей гордыни
оснований нет, — не ты ль,
дорогая, любишь ныне,
опираясь на костыль?
Пламя то, что отгорело,
не согреет никогда.
Для тебя, окостенелой,
страсть — великая беда.
Безрассудная, когда же
ты поймешь, что лишь одно
для тебя — кудель и пряжа,
нить с иглой, веретено…
Тыква, чьи всегда унылы
и безрадостны пути,
неожиданно решила
кипарис перерасти.
Ствол его, что ввысь нацелен,
стройность этого ствола
и невянущую зелень
тыква жадно обвила.
Тот смеется: планы чьи-то,
вероятно, не сбылись,—
и с насмешкой ядовитой
тыкве молвит кипарис:
«Ты спесива и надменна,
но зима придет — и что ж?
Ты погибнешь и мгновенно
вновь на землю упадешь…»
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
С юных лет нам, как известно,
должность эту приписали:
сами в печи ставим тесто —
и торгуем хлебом сами.
Мы для города — торговки.
Но в одном ли торге дело?..
Поначалу, без сноровки,
ломит с устали все тело.
Долго спишь — терпи убытки.
Значит, отдых нам заказан.
Хочешь, нет ли, — станут прытки
руки, ноги, да и разум!
Чтоб спорее шла работа,
надо сразу приучиться
все мешки, совки, решета,
сита, противни, корытца
в чистоте держать, в порядке,
и всему — свое чтоб место.
Вот тогда в скобленой кадке
и меси на совесть тесто!..
А надзор ведут мужчины —
как торгуем, проверяют:
с нас, от имени общины,
знай динары собирают.
Постоят перед весами,
поглядят сурово этак
и сгребут с лоточка сами —
кто две-три, кто шесть монеток.
Кое-что опять же надо
сунуть писарю под башней:
он бумагу даст — и к складу
совершим свой путь всегдашний.
Там, в скале, где закром главный,
пред зерном с мешками станем…
Наполняют их исправно —
так, что еле-еле тянем.
Все провеем над лоханью —
ни остиночки, пи пыли!
А потом, чтоб горожане
с голодухи пе вопили,
мелем быстро, мерим быстро,
дважды, трижды просеваем —
и муку в кадушках чистых
тут — к хлебам, там — к караваям,
не присев, готовим сразу,
да при этом так искусно,
что приятно будет глазу,
а уж рту — куда как вкусно!
Понимать тут нужно тоже
вещь такую вот, к примеру:
и вода, и соль, и дрожжи —
все должно быть точно в меру.
Тесто долго мнем и давим,
сил на это не жалея.
Чуть муки в замес добавим —
сразу туже он, белее…
Замесив, формуем тут же:
вот вам пышный хлеб, вот плоский,
этот круглый, тот поуже,—
и кладем их все на доски.
Сверху — либо покрывало,
либо теплую тряпицу,
чтобы тесто доспевало.
Надо ждать, не торопиться.
Глядь — оно и поднялося!
Тут взошедшую опару
без задержки мы относим
прямиком к печному жару.
Кочергой в печи шуруя,
смотрим, чтоб не подгорело.
А коль хлебину сырую
проглядим, то плохо дело:
мало ль склочного народца
в достославном нашем граде?
Целый бунт, поди, начнется,
даже стража с ним не сладит!..
Подвергают хлеб наш пробам
должностные прежде лица.
Впрочем, с этим-то народом
можем мы договориться:
им, для их же интересу,
носим яйца по-французски,
чтоб, коль в хлебе мало весу,
не томили нас в кутузке.
Но к мздоимству всяк ведь лаком —
и хлебнуть беды мы можем,
если стражникам-собакам
что-то в лапы не положим:
оклевещут нас, известно,
перед теми, должностными!
Так что заработок честный
делим мы еще и с ними.
Ладно, с нас печник да мельник
непомерной просят платы.
А ведь стражник-то — бездельник!
Так за что ж берет, проклятый?
Хоть сожрали б, что ли, черти
всех таких! А их немало:
Горлопан, Пузанчич, Фертик,
Кровосос, Храпун, Воняла…
Самый вредный прозван Дошлым;
он одну из нас, бесстыжий,
еще летом позапрошлым
обобрал и с торга выжил!
При труде вседневном тяжком
да с такими наглецами
не прожить бы нам, бедняжкам,
не свести концы с концами:
мы, доход свой раздавая,
прогорели все давно бы,
каб — лишь хлеб да караваи,
каб — ни кренделя, ни сдобы.
Но на то ты и торговка:
с калачей, с рожков, с пирожных,
если ты печешь их ловко,
и разжиться даже можно.
Есть у нас лепешки, сласти —
ешьте, коль монет не жалко!
Всех ловчей по этой части
Образина и Давалка.
Кто ж из двух-то — знаменитей?
Кто в заглавном-то почете?
Со второй пример возьмите —
всё, сударушки, поймете…
Люди! Ласкового слова
просим нынче, как награды.
Похвалите ж нас! И снова
вам служить мы будем рады.
ИГНЯТ ДЖЮРДЖЕВИЧ