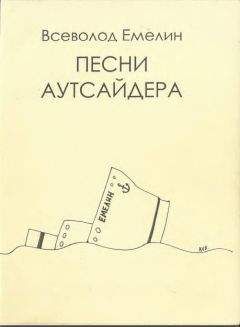Всеволод Емелин - Götterdämmerung: cтихи и баллады
Человек в поролоне
Из-за изменения температуры
океанских вод,
Гольфстрим изменил направление
и потек куда-то в жопу,
Сковал в результате лед
Несчастную нашу Европу.
Оптимист
Я в это не верю. Пустые слова.
Просто, вследствие кризиса,
Содержание в атмосфере СО2
Значительно снизилось.
Разливают. Выпивают.
Эффективный менеджер (вскакивает и отбрасывает от себя стакан с криком)
Господи, Боже правый!
Пить эту дрянь не дело.
Смотрите, этой отравой
Мой стаканчик разъело!
Сатин (не выдержав)
Боже, ну что за баран?
Как мне это все надоело!
Ни у кого не разъело стакан,
А у него, понимаешь, разъело!
Эффективный менеджер с рыданиями выбегает из комнаты.
Сатин (устало)
Вот и славно. Достал уж своим нытьем.
Есть дело поинтересней.
Давайте хором споем
Нашу любимую песню.
Все (наливают, выпивают, затягивают):
Было время, процветала
В мире наша сторона,
Было газа и металла,
Было нефти до хрена.
Мы ходили на охоту,
Возлежали средь пиров,
Скинув грязную работу
В руки черные рабов.
С плоских плазменных панелей
Днем и ночью, круглый год
Ликованье и веселье
Изливалось на народ.
Жизнь неслась без остановки
Лишь звенели бубенцы,
И сияли на Рублевке
Наши замки и дворцы.
Гнали вдаль трубопроводы
Неустанно нефть и газ,
И росли, росли доходы
С каждым месяцем у нас.
Пессимист встает из-за стола и выходит из комнаты.
Нынче трубы проржавели,
Лебедою поросли.
Кружат черные метели,
Светит зарево вдали.
Стало тихо, как в могиле,
Не горит ни фонаря,
И трясиною застыли
Нефти мертвые моря.
Разгулялись злые бесы
Над руинами трубы,
Неподвижны “мерседесы”
Как гламурные гробы.
Поднялися из подвалов,
Словно тучи саранчи,
Стаи мрачных маргиналов —
Прежней жизни палачи.
Как гиены по пустыне
Всюду рыщут босяки,
И глазницами пустыми
Пялятся особняки…
Вбегает Пессимист, бледный, с прыгающими губами. Он кричит запинающимся голосом.
Пессимист
Вы сидите тут, вам весело,
Алкоголь гудит в башке,
А там менеджер повесился
На своем, блядь, ремешке.
Рвота рот ему забила,
И сработала кишка,
И вот пряжка отскочила
От его, блядь, ремешка.
Протягивает дрожащую ладонь, в ней блестит пряжка с надписью HUGO BOSS. Все вскакивают из-за импровизированного стола, опрокидывая икеевские табуретки. Подбегают к Пессимисту, толкаются вокруг него, зачем-то разглядывая пряжку.
Сатин (берет пряжку с ладони Пессимиста, держа указательным и большим пальцами правой руки, подносит ее к глазам, задумчиво произносит)
Надо же, пряжка. Эк его как.
То-то кусал он все локти.
(С неожиданной злобой продолжает.)
Захотел удавиться — на тебе в руки
флаг!
Но зачем, дурак, песню испортил?
(Размахнувшись, швыряет пряжку с надписью “HUGO BOSS” в окно, кое-как заклеенное пленкой и разломанными картонными коробками. Попав в одну их многочисленных щелей, пряжка вылетает наружу.)
Занавес
Конец третьего действия
2008
Захар Прилепин
Печальный плотник, сочиняющий стихи
Такое редко случается: услышишь восемь строк — и все. Убит наповал.
В случае с Емелиным именно так и было.
Вот эти они, эти дикие и чем-то завораживающие стихи.
«Из лесу выходит / Серенький волчок, / На стене выводит / Свастики значок».
И дальше:
«Где Он, тот, что вроде / Умер и воскрес? / Из лесу выходит / Или входит в лес?»
Я иногда повторяю эти строчки про себя, совершенно не зная, о чем они.
В Емелине есть странный парадокс.
С одной стороны, нет ничего глупее, чем воспринимать все его тексты абсолютно всерьез, — что делают иногда буйные поборники тотальной толерантности (национальной, сексуальной и т. д., и т. п.). Нужно быть удивительно плоским и лишенным минимального чувства юмора человеком, чтоб не слышать, что больше всего и безжалостнее всего Емелин издевается сам над собой; или, если угодно, — над своим лирическим героем.
С другой стороны, нет ничего пошлее, чем воспринимать сочинения Емелина как срифмованные хохмы, и, слушая его, своеобразно напрягая лоб и скулы, только и ждать момента, когда можно в голос засмеяться. Нет ничего пошлее, говорим мы, потому что Емелин — это очень всерьез.
Парадокс, да.
Причем не единственный парадокс.
В Емелинской поэтике органично соединены элементы плача, порой переходящего почти в истерику — и глубочайшей сердечной сдержанности, мало того — человеческого мужества — очень внятного, ненаносного, последовательного.
Емелин кажется асоциальным типом — при том, что его тяга к упорядоченности и теплоте мира, или, если опять же угодно — социума, огромна. Сиротство как блаженство Емелин не собирается испытывать. Его блаженство — усыновленность; да и не только его — ведь он за многих брошенных и кинутых впервые подал голос.
Емелинские стихи абсолютно лишены той ложной многозначительности, что является признаком подавляющего большинства поэтических сочинений настоящего времени — и любую строку, написанную Емелиным, едва ли удастся наделить какими бы то ни было иными смыслами, кроме тех, что лежат на поверхности.
Однако если не во всех, то во многих, лучших стихах Емелина мы можем наблюдать тот самый фокус, что делается пустыми руками, и — иногда зовется подлинным искусством. Только что не было ничего — только сама речь, безыскусная и раздетая автором почти догола, — и вдруг возникает ощущение времени, судьбы и непреходящей боли.
Откуда, непонятно.
Мы несколько раз встречались с Емелиным, и я пытался выспросить у него: откуда.
В поисках ответа пришлось ему пересказать мне всю свою жизнь.
Пролог. «Давай сломаем этот образ!»Его воспоминания начинались так: Москва, Фрунзенская набережная. Отец и маленький сын, белобрысый дошкольник на заплетающихся ножках. Маленькая лапка затерялась в крепкой, взрослой руке.
Вокруг яркое, отчетливое, цветущее, тополиное лето. Мощь сталинской архитектуры, Воробьевы горы, река, и солнце в реке — а отец смотрит на мальчика с невыносимой жалостью: пацана опять будут оперировать.
— А что болело? — спрашиваю.
Пацан вырос. Ему уже много лет. Он отвечает:
— Что только ни болело. Гланды резали в четыре года… водянка — это с мочевым пузырем. В паху резали. До сих пор шрам в районе яиц… Только и делал, что болел и перемещался из больницы в больницу.
Разговор происходит на второй день знакомства, под третий стакан. Мы тихо пьем вино в его маленькой, скромной квартирке, поэт Всеволод Емелин, его жена Вероника и я.
— Слушай, я тебе такие вещи рассказываю — о них никто не знает, я никому не говорил… — останавливает себя Емелин, — у меня же образ такого простого рабочего паренька с окраины…
— Давай, Сев, разломаем этот образ, а?
— Давай… Так вот, ни хрена я не с рабочей окраины.
Глава первая, КремлевскаяЕсли он говорит грустные вещи — лицо печально, но глаза при этом веселые. Если о веселом вспомнит — все наоборот.
О маме говорит с грустным взором.
Мать «паренька с рабочей окраины» Севы Емелина работала в Кремле.
Тут бы хорошо добить удивленного читателя и сказать, что Емелин — внебрачный сын, к примеру, министра культуры Фурцевой: была такая легендарная женщина в СССР. У Фурцевой обязательно должны были рождаться именно такие «поперечные» дети. Очень мелодраматичная получилась бы история. Но нет, все чуть проще.