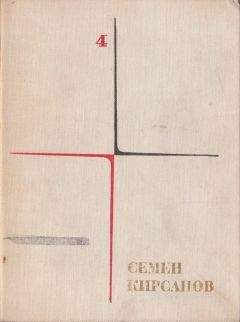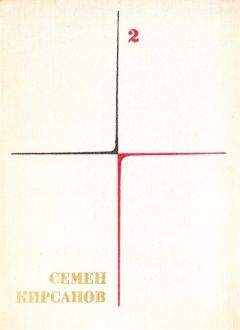Семен Кирсанов - Гражданская лирика и поэмы
МЕТЕЛЬ В МОСКВЕ
В Москве метет метель —
то в подворотнях роется,
то фортки
рвет с петель,
то вьется к башне Троицкой.
Попавшие под вихрь,
ползут машины
медленно,
на стеклах ветровых
бог знает что налеплено!
В Москве метель метет,
метет
с церковных луковиц,
по мостовой метет
газету, что ли, рукопись?
Насквозь визжит подъезд,
от хохота, от плача ли?
Сугробы даже
с мест
передвигаться начали…
В Москве метет метель,
буран по всей Москве-реке,
из школ
ведут детей,
держа их крепко за руки.
Закутаны в платки
да в пуховые кружевца…
И лишь одни
катки
с метелью вместе кружатся.
В Москве метель метет.
Витрины запорошены.
А очередь
ведет
как летом — за мороженым.
Снег задымил весь мир,
на стойке смерзлись денежки,
но варежкой —
пломбир
ко рту подносят девушки.
В Москве метет метель
и в пляске
света тусклого
штурмует цитадель
завьюженного Курского.
Курортники из Гагр
к такси бегут с мимозами,
исколот
их загар
занозами морозными.
В Москве метель метет,
с Неглинной вырывается,
несется в
«Гранд-отель»,
в «Националь» врывается.
Индус из-за дверей
и негр в плаще нейлоновом
глядят
на климат сей
глазами удивленными.
Метель метет в Москве,
с трудом, как в гору,
тащимся,
а самосвал на сквер
везет асфальт дымящийся,
везут домов куски,
квартиры в полной целости,
как будто
у Москвы
нет дела до метелицы!
В Москве метель метет,
слепит,
сечет безжалостно,
а молодежь идет:
— Мети себе, пожалуйста! —
Снег соскребают вслед
машины типа уличных.
А утром —
свежий хлеб
пахнёт из теплых булочных.
А я люблю метель,
и как она ни режется —
я б нынче не хотел
на южном пляже
нежиться.
Мне ветер по нутру!
Мосты кренит, как палубы.
Как жил я
на ветру —
так буду жить без жалобы!
КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ
Занесена по грудь
Россия снеговая —
царицын санный путь,
дорога столбовая
в леса, леса, леса
уходит, прорезаясь…
Лишь промелькнет лиса,
да вдруг присядет заяц,
а то — глаза протри —
из-за худых избенок
вдруг свистнет пальца в три
сам Соловей-разбойник,
а то — простой народ
начнет сгибаться в пояс, —
шлет вестовых вперед
императрицын поезд.
Она — при всем дворе,
две гренадерских роты,
вот — вензеля карет
горят от позолоты.
На три версты — парча,
да соболя, да бархат,
тюрбаны арапчат,
флажки на алебардах.
Вот виден он с холма,
где путь уже проторен,
вот Матушка сама,
ее возок просторен,
салоп ее лилов,
лицо, как жар, румяно,
но это дар послов —
французские румяна…
За восемьдесят верст
она к любимцу едет,
с которым, полный звезд,
граф Воронцов соседит.
Вот первый поворот
у башен необычных —
баженовских ворот
два кружева кирпичных,
как два воротника
венецианских дожей,
но до конца — пока
дворец еще не дожил.
Царицу клонит спать,
ей нужен крепкий кофий,
до камелька — верст пять,
не то что в Петергофе!
А тут все снег да снег,
сугробы да ухабы,
от изразцов — да в мех,
все мужики да бабы…
Тут, будто о пенек,
споткнулся конь усталый,
и захрапел конек,
и вся шестерка стала.
Он мутно из-под шор
глядит, дрожат колени…
И облетело Двор
монаршее веленье:
«Конь царский пал. Ему
воздвигнуть изваянье.
„Коньково“ — дать сему
селению названье».
Повелено запрячь
в возок коня другого,
трубач несется вскачь —
и позади Коньково.
Темнеет путь лесной.
Не зябнет ли царица?
А может, за сосной
ей самозванец мнится?
То лес аль Третий Петр,
исчезнувший куда-то,
во мгле проводит смотр
своих солдат брадатых?..
Но вот и Теплый Стан,
где камелек теплится.
Поднять дородный стан
спешат помочь царице,
и — в кресло! Без гостей!
В тепле благоуханном
подносят кофий ей
в фарфоре богдыхана.
А крепок он — зело!
Арабским послан ханом.
Тепло — зане село
зовется Теплым Станом.
Царица в кресле спит,
да неспокоен отдых.
Раскрыла рот. Висит
монарший подбородок.
Казачья борода
ей снится, взгляд мужичий.
Вольтера бы сюда,
да не таков обычай.
А бабам в избах жуть —
ушли мужья и сваты,
угнали чистить путь,
велели взять лопаты,
боятся конюхов
в их чужеземных платьях,
скорей бы петухов
дождаться на полатях…
Лишь утро — и пошли
скрипеть возы и сани.
Вот и Десну прошли
овражными лесами,
вот и века прошли,
земной окутав глобус.
…Ну вот, и мы сошли,
покинув наш автобус.
Калужское шоссе,
волнистая равнина,
тебя — в иной красе
как не любить ревниво!
И вас — как не любить,
седые деревеньки!
Вы скоро, может быть,
исчезнете навеки…
Уже покрыл бетон
дороги подъездные,
снимаются с окон
наличники резные.
И сколько снято крыш
строителями — за год!
В былую глушь и тишь
ворвался Юго-Запад.
И жаль, и хорошо!
Пора прощаться с солнцем,
последний петушок
над слуховым оконцем,
прощай, ты никогда
навстречу к нам не выйдешь
и новые года
вовеки не увидишь!
Зарылся в давний снег
возок Екатерины,
иным идет к весне
калужский путь старинный.
И там, где Теплый Стан,
уже стоят пролеты
огромного моста
и реют вертолеты,
а правнучка тех баб —
с голубизной в ресницах —
врезается в ухаб
железною десницей.
По десять этажей
сюда, попарно строясь,
дома идут уже,
как в будущее — поезд!
И около леска
иного, молодого —
написано: «Москва».
Все заново, все ново!
ТРУБА НАПОЛЕОНА
Еще не опален
пожаром близкой брани —
сидит
Наполеон
на белом барабане,
обводит лес и луг
и фронт
перед собою
созданием наук —
подзорного трубою.
На корсиканский глаз
зачес
спадает с плеши.
Он видит в первый раз
Багратиона флеши.
Пред ним театр войны,
а в глубине театра —
Раевского
видны
редуты, пушки, ядра…
И, круглая, видна,
как сирота,
Россия —
огромна и бедна,
богата и бессильна.
И, как всегда, одна
стоит,
добра не зная,
села Бородина
крестьянка крепостная…
Далекие валы
обводит
император,
а на древках — орлы
как маршалы
пернатых,
и на квадратах карт
прочерчен путь победный.
Что ж видит
Бонапарт
своей трубою медной?
Вот пики,
вот флажок
усатых кирасиров…
В оптический кружок
вместилась ли
Россия?
Вот, по избе скользя,
прошелся, дым увидев…
А видит он
глаза,
что устремил Давыдов?
Верста,
еще верста,
крест на часовне сирой…
А видит он
сердца
сквозь русские мундиры?
Он водит не спеша
рукою в позументах…
И что ж?
Ему душа
Кутузова — заметна?
Вот новый поворот
его трубы блестящей.
А с вилами
народ
в лесной он видит чаще?
Сей окуляр таков,
что весь пейзаж усвоен!
А красных
петухов
он видит над Москвою?
А березинский снег?
А котелки пустые
А будущее
всех
идущих на Россию
он видит?
Ничего
не видит император.
Он маршалов
зовет
с улыбкой, им приятной.
Что, маршалы?
В стогах
не разобрались?
Слепы?
Запомните — в снегах
возникнут ваши склепы!
Биноклей ложный блеск —
в них не глаза,
а бельма!
Что мог поведать Цейс
фельдмаршалам Вильгельма?
О, ложь стереотруб!
Чем Гитлер
им обязан?
Что — он проникнул в глубь
России
трупным глазом?
Вот —
землю обхватив
орбитой потаенной,
глазеет
объектив
на спутнике-шпионе, —
но, как ни пяльтесь вы,
то, чем сильна Россия, —
к родной земле
любви
вы разглядеть не в силах!
Взгляните же назад:
предгрозьем
день наполнен,
орлы взлететь грозят
над Бородинским полем.
С трубой Наполеон
сидит
на барабане,
еще не опален
пожаром близкой брани.
НАБЕРЕЖНАЯ