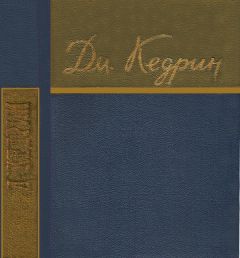Александр Блок - Том 3. Стихотворения и поэмы 1907–1921
Пропадая на целые дни — до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении — высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом.
Он проезжает деревни, сначала ближние, потом — незнакомые. Молодухи и девки у колодца. Зачерпнула воды, наклонилась, надевает ведра на коромысло, слышит топот коня, заслонилась от солнца, взглянула и засмеялась — блеснули глаза и зубы — и отвернулась, и пошла плавно прочь. Он смотрит вслед, как она качает стан, и долго ничего не видит, кроме этих смеющихся зубов, и поднимает лошадь в галоп. Она переходит в карьер, он летит без оглядки, солнце палит, и ветер свистит в ушах, уже вся деревня промелькнула мимо — последние сараи, конопля, поля ржаные, голубые полоски льна, — опять перелесок, он остановил лошадь, она пошла шагом, тень, колеи, корни, из-за стволов старых смотрит большая заросль белой серебрянки, как дым, как видение.
Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полосой леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда весной, и уже солнце было на закате, когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката — облака окрасились в пурпур, видение средневековой твердыни. Он минует деревню и подъезжает к лесу, едет шагом мимо него; вдруг — дорожка в лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку — фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони он перестает быть мальчиком.
Январь и май-июль 1921
Наброски продолжения третьей главы
Так у решотки сада длинной
Стоит и мерзнет мой герой…
Всё строже, громче вьюги вой
Над этой площадью пустынной,
Встает метель, идет метель,
Взрывает снежную постель,
И в нем тоску сменяет нега,
В его глазах стоит туман,
И столбики и струйки снега
(Вдруг) разрастаются в буран,
Свист меж нагих кустов садовых,
Железный гром с далеких крыш,
И сладость чувств — летишь, летишь
В объятьях холода свинцовых…
Вдруг — бешеная голова
Коня с косматой белой гривой,
И седоусый, горделивый
Пан, разметавший рукава,
Как два крыла над непогодой
[Он шпорит дикого коня,
Его глазки как угли, алы]
…свободой.
Из-под копыт, уж занесенных
Над обреченной головой,
Из-под удил коня вспененных,
Из снежной тучи буревой
Встает виденье девы юной,
Всё — … всё — нежность, всё — призыв,
И голос, точно рокот струнный.
Простая девушка пред ним…
Как называть тебя? — Мария.
Откуда родом ты? — С Карпат.
— Мне жить надоело. — Я тебя не оставлю. Ты умрешь со мной. Ты одинок? — Да, одинок. — Я зарою тебя там, где никто не узнает, и поставлю крест, и весной над тобой расцветет клевер.
— Мария, нежная Мария,
Мне жизнь постыла и пуста!
Зачем змеятся молодые
И нежные твои уста?
Какою … думой…
— Будь веселей, мои гость угрюмый,
Тоска минует без следа.
Твоя тоска……… пройдет.
Где мы? — Мы далеко, в предместьи,
Здесь нет почти жилых домов.
Скажи, ты думал о невесте?
— Нет, у меня невесты нет.
— Скажи, ты о жене скучаешь?
— Нет, нет, Мария, не о ней.
Она с улыбкой открывает
Ему объятия свои,
И всё, что было, отступает
И исчезает (в забытьи).
И он умирает в ее объятиях. Все неясные порывы, невоплощенные мысли, воля к подвигу, [никогда] не совершенному, растворяется на груди этой женщины.
Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того …
Того, что должен был свершить.
Май-июль 1921
К поэме «Двенадцать»
Из «Записки о двенадцати»
…в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ошущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги или друзья моей поэмы.
Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря, — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над ними. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики.
Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец — кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда.
1 апреля 1920
Переводы из Гейне, редактированные А. Блоком
«Глаза мне ночь покрыла…»
Глаза мне ночь покрыла,
Рот придавил свинец,
В гробу с остывшим сердцем
Лежал я, как мертвец.
Как долго, я не знаю,
Проспал я так, но вдруг
Проснулся я и слышу:
В мой гроб раздался стук.
«Ты хочешь встать, мой Генрих?
День вечный засиял,
Все мертвые воскресли,
Век радости настал».
Любовь моя, не в силах,
Горючая слеза
Давно уж ослепила,
Выжгла мои глаза.
«Хочу я с глаз, мой Генрих,
Лобзаньем ночь прогнать;
И ангелов, и небо
Ты должен увидать».
Любовь моя, не в силах,
Струится кровь рекой,
Ты сердце уколола
Мне словом, как иглой.
«Тихонько сердце, Генрих,
Рукой закрыть позволь;
И кровь не будет литься,
Утихнет сразу боль».
Любовь моя, не в силах,
Пробит насквозь висок;
Стрелял в него я, знаешь,
Когда украл тебя рок.
«Я локонами, Генрих,
Висок могу зажать,
И кровь уйдет обратно,
И будешь здоров опять».
Так сладостно просила,
Не мог я устоять;
Хотел навстречу милой
Подняться я и встать.
Тогда раскрылись раны,
Рванулся из груди
Поток бурлящей крови,
И я воскрес — гляди!
«Жил был король суровый…»
Жил был король суровый,
Старик седой, угрюм душой;
И жил король суровый
С женою молодой.
И жил был паж веселый,
Кудряв, и юн, и смел душой;
Носил он шлейф тяжелый
За юной госпожой.
Ты помнишь эту песню?
Она грустна, она светла!
Они погибли вместе,
Любовь обоих сожгла.
Поле битвы при Гастингсе
Аббат Вальдгэма тяжело
Вздохнул, смущенный вестью,
Что саксов вождь — король Гарольд —
При Гастингсе пал с честью.
И двух монахов послал аббат, —
Их Асгот и Айльрик звали, —
Чтоб тотчас на Гастингс шли они
И прах короля отыскали.
Монахи пустились печально в путь,
Печально домой воротились:
«Отец преподобный, постыла нам жизнь
Со счастием мы простились.
Из саксов лучший пал в бою,
И Банкерт смеется, негодный;
Отребье норманнское делит страну,
В раба обратился свободный.
И стали лордами у нас
Норманны — вшивые воры.
Я видел, портной из Байе гарцовал,
Надев золоченые шпоры.
О, горе нам и тем святым,
Что в небе наша опора!
Пускай трепещут и они,
И им не уйти от позора.
Теперь открылось вам, зачем
В ночи комета большая
По небу мчалась на красной метле,
Кровавым светом сияя.
То, что пророчила звезда,
В сражении мы узнали.
Где ты велел, там были мы
И прах короля искали.
И долго там бродили мы,
Жестоким горем томимы,
И все надежды оставили нас,
И короля не нашли мы».
Асгот и Айльрик окончили речь;
Аббат сжал руки, рыдая,
Потом задумался глубоко
И молвил им, вздыхая:
«У Гринфильда Скалу Певцов
Лес окружил, синея;
Там в ветхой хижине живет
Эдит, Лебяжья Шея.
Лебяжьей Шеей звалась она
За то, что клонила шею
Всегда, как лебедь; король Гарольд
За то пленился ею.
Ее он любил, лелеял, ласкал,
Потом забыл, покинул.
И время шло, шестнадцатый год
Теперь тому уже минул.
Отправьтесь, братья, к женщине той,
Пускай идет она с вами
Назад на Гастингс — и женский взор
Найдет короля меж телами.
Затем в обратный пускайтесь путь.
Мы прах в аббатстве скроем, —
За душу Гарольда помолимся все.
И с честью тело зароем».
И в полночь хижина в лесу
Предстала пред их глазами.
«Эдит, Лебяжья Шея, встань
И тотчас следуй за нами.
Норманнский герцог победил,
Рабами стали бритты,
На поле Гастингском лежит
Король Гарольд убитый.
Ступай на Гастингс, найди его, —
Исполним наше дело, —
Его в аббатство мы снесем,
Аббат похоронит тело».
И молча поднялась Эдит,
И молча пошла за ними.
Неистовый ветер ночной играя
Ее волосами седыми.
Сквозь чашу леса, по мху болот
Ступала ногами босыми,
И Гастингса меловой утес
Наутро встал перед ними.
Растаял в утренних лучах
Покров тумана белый,
И с мерзким карканьем воронье
Над бранным полем взлетело.
Там на поле тела бойцов
Кровавую землю устлали,
А рядом с ними в крови и пыли
Убитые кони лежали.
Эдит, Лебяжья Шея, в кровь
Ступала босою ногою,
И взгляды пристальных глаз ее
Летели острой стрелою.
И долго бродила среди бойцов
Эдит, Лебяжья Шея,
И, отгоняя воронье,
Монахи брели за нею.
Так целый день бродили они,
И вечер приближался,
Как вдруг в вечерней тишине
Ужасный крик раздался:
Эдит, Лебяжья Шея, нашла
Того, кого искала.
Склонясь, без слов и без слез она
К его лицу припала.
Она целовала бледный лоб,
Уста с запекшейся кровью,
К раскрытым ранам на груди
Склонялася с любовью.
К трем малым рубцам на плече его
Она прикоснулась губами, —
Любовной памятью были они,
Прошедшей страсти следами.
Монахи носилки сплели из ветвей,
Тихонько шепча молитвы,
И прочь понесли своего короли
С ужасного поля битвы.
Они к Вальдгэму его несли.
Спускалась ночь, чернея,
И шла за гробом своей любви
Эдит, Лебяжья Шея.
Молитвы о мертвых пела она,
И жутко разносились
Зловещие звуки в глухой ночи.
Монахи тихо молились.
«Весенней ночи прекрасный взор…»