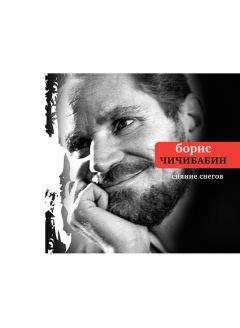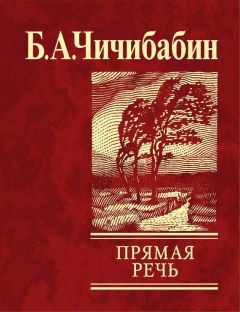Борис Чичибабин - Собрание стихотворений
Третий раздел книги составляют стихотворения из вышеупомянутых рукописных сборников 50-х годов. Подробное описание этих сборников предложено в комментариях. В этот же раздел включены стихотворения разных лет из архива поэта, не публиковавшиеся при жизни.
В настоящем издании впервые представлены комментарии к стихотворениям Чичибабина, что свидетельствует о начале нового этапа в изучении творчества поэта. К сожалению, формат книги не позволил в полном объеме представить этот важный содержательный материал. Огромная благодарность доктору филологических наук Светлане Буниной за работу над комментариями, а также сотруднику издательства «Фолио» Владимиру Яськову и зав. отделом «Чичибабин-центр» Вере Булгаковой за помощь в составлении книги. Бесконечная благодарность издательству «Фолио» за публикацию книг Бориса Чичибабина, а также Фонду поддержки демократических инициатив Евгения Кушнарева за содействие в издании этой книги. Будем надеяться, что «Собрание стихотворений» послужит продолжению творческой жизни поэта.
Лилия Карась-ЧичибабинаРАЗДЕЛ 1
Стихотворения их книг 1980–1990-х годов{1}
1946–1959
* * * Кончусь, останусь жив ли{2}, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят…
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письмена…
Красные помидоры
кушайте без меня.
МАХОРКА{3}
Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся цигаркою в зубах.
Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жмется и сидит.
А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.
Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.
Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.
А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.
ЛАГЕРНОЕ{4}
Мы не воры и не бандиты,
и вины за собой не числим,
кроме юности, а поди ты,
стали пасынки у отчизны.
Нам досталось по горстке детства
и минуты всего на сборы,
наградил нас угрюмый деспот
шумной шерстью собачьей своры.
Все у нас отобрали-стибрили,
даже воздух, и тот обыскан, —
только души без бирок с цифрами,
только небо светло и близко.
Чуть живой доживу до вечера,
чтоб увидеть во сне тебя лишь…
Лишены мы всего человечьего,
брянский волк нам в лесу товарищ.
Кто из белых, а кто из красных,
а теперь навсегда родные,
и один лишь у сердца праздник —
чтоб такой и была Россия.
Мы ее за грехи не хаем,
только брезгаем хищной бронзой, —
конвоирам и вертухаям
не затмить нашей веры грозной.
Наше братство ненарушимо,
смертный час нам, и тот не страшен, —
только ж нет такого режима,
чтоб держали всю жизнь под стражей.
Острый ветер пройдет по липам,
к теплым пальцам прильнут стаканы, —
я не знаю, за что мы выпьем,
только знаю, что будем пьяны.
ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ * [3]{5}
Был бы я моложе — не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.
Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.
«Славу запретите, отнимите кровлю», —
сказано при Тите пламенем и кровью.
Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.
Оборвались корни, облетели кроны, —
муки гетто, коль не казни да погромы.
Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?
Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа — цвет Коммуны Русской.
Ничего, что нету надо лбами нимбов, —
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.
И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара…
Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью золотой и горькой,
не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной
в русские трясины, в пажити и в реки, —
я б хотел быть сыном матери-еврейки.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ{6}
По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга — шпыни да шиши.
А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травою черной
беспризорные поля.
На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка Сибирь.
На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.
Льнет к полячке русый рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..
Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря…
Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать…
«И никто нам не поможет.
И не надо помогать».
БИТВА{7}
В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.
И вот, чертя смертельные круги,
хрипя и пенясь чувственною бурей,
рога в рога ударятся враги,
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.
И будет битва, яростью равна,
шатать стволы, гореть в огромных ранах.
И будет ждать, покорная, она,
дрожа душой за одного из равных…
В поэзии, как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь — к паденьям и удачам.
Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь по строфам шумным и росистым
на милый зов, на роковой искус —
с великолепным недругом сразиться.
* * * Пока хоть один безутешен влюбленный{8}, —
не знать до седин мне любви разделенной.
Пока не на всех заготовлен уют, —
пусть ветер и снег мне уснуть не дают.
И голод пока смотрит в хаты недобро, —
пусть будут бока мои — кожа да ребра.
Покуда я молод, пока я в долгу, —
другие пусть могут, а я не могу.
Сегодня, сейчас, в грозовой преисподней,
я горшую часть на спине своей поднял.
До лучших времен в непогоду гоним,
таким я рожден — и не быть мне иным.
В глазах моих боль, но ни мысли про старость.
До смерти, любовь, я с тобой не расстанусь.
Чтоб в каждом дому было чудо и смех, —
пусть мне одному будет худо за всех.
* * * Твои глаза светлей и тише{9}
воды осенней, но, соскучась,
я помню волосы: в них дышит
июльской ночи тьма и жгучесть.
Ну где еще отыщет память
такую грезящую шалость,
в которой так ночное пламя б
с рассветным льдом перемешалось?
Такой останься, мучь и празднуй
свое сиянье над влюбленным, —
зарей несбыточно-прекрасной,
желаньем одухотворенным.
* * * И опять — тишина, тишина, тишина{10}.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
и почиет пчела на моем подбородке.
Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.
Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадью.
Это самое лучшее, чтó мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.
И не страшно душе — хорошо и легко
сбиться с листьями леса, с растительным соком,
с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.
СЕВЕР{11}
Край родной, лесной, звериный, птичий,
полный красок, светлый от росы,
по тебе немало бродит дичи,
сердце мрет от мощи и красы.
Там — колосья спелые, литые,
тут — лесов колючие рога,
в темных водах зори золотые,
на болотцах пестрые луга.
До людского логова не близко.
Лес под ветром иглами шумит,
не смолкая, смолкою обрызган,
небесами белыми облит.
Низом шелест стелется осенний,
от берез исходит аромат,
и под их благоуханной сенью
отдыхают звери, задремав…
Затрещит валежник под ногами —
запоет в охотнике азарт…
А про ночи белые на Каме —
никому про то не рассказать.
Хорошо от всех рабочих мытарств,
от жары и пыли городской
в этих чащах досвежа умыться
золотой крестьянскою росой.
Я прошел по Северу веселый,
улыбался людям по пути,
полюбил леса его и сёла,
тишину осенних паутин.
И когда состарятся ладони,
и когда, утихнув и сомлев,
оплошает сердце молодое,
отгуляют ноги по земле,
помутятся очи — и шабаш им, —
я последним взором подыму
те озера с плёскотом лебяжьим
и деревья в дрёме и дыму…
На земле не жал я и не сеял,
но душа взойдет на небеса,
к Богу в гости, если Юг и Север
хорошо я людям описал.
ВОСПОМИНАНИЕ О ВОСТОКЕ{12}
Чуть слышно пахнут вяленые дыни.
У голубых и призрачных прудов
поет мошка. В полуденной пустыне
лежат обломки белых городов.
Они легли, отвластвовав и канув, и
ни один судьбой не пощажен,
и бубенцы беспечных караванов
бубнят о счастье мнимом и чужом.
Верблюды входят в сонную деревню —
простых людей бесхитростный приют.
Два раза в год беременны деревья,
плоды желтеют, падают, гниют.
Мир сотворен из запахов и света,
и верю я, их прелестью дыша,
что здесь жила в младенческие лета
моя тысячелетняя душа.
СТЕПЬ * {13}
Здесь русская тройка прошлась бубенцом,
цыганские пели костры,
и Пушкина слава зарылась лицом
в траву под названием трын.
Курчавый и смуглый промчался верхом,
от солнца степного сомлев,
и бредил стихом, и бродил пастухом
по горькой и милой земле.
А русые волосы вились у щек,
их ветер любил развевать…
И если не это, то что же еще
Россией возможно назвать?..
Шумит на ветру белобрысый ковыль,
и зной над лугами простерт,
и тут же топочет, закутавшись в пыль,
веселый украинский черт…
В румяной росе веселится бахча
под стражей у двух тополей.
Девчата болтают, идут хохоча,
и нету их речи милей.
И светлая речка, сверкая, течет,
и свежесть той речки, как дар…
И если не это, то что же еще
зовут Украиной тогда?..
Я сам тут родился и, радостный, рос,
и сил набирался, и креп,
и слушал ритмичную музыку кос,
и ел ее сладостный хлеб.
Тут чары смешались двух родин-сестер,
и труд их кипит, как душа,
и воздух, как перец, горяч и остер,
и этим я чудом дышал.
ПРОСЬБА{14}
Соловей — птица Божия,
научи меня петь, как ты.
До последней сердечной дрожи я
полюбил земные сады.
Вечера в синеве и золоте.
Голосистых рассветов гам.
С тихим стуком падают желуди
к освеженным росой ногам.
И цветут сады в изобилии,
и на цыпочках ходит грех,
и встают лебедями лилии
над прозрачной душою рек.
Уголки, что манили из дому,
где с любимой вдвоем бывал, —
каждой песней моей неизданной
поклониться хотел бы вам.
Вот опять зазвучали и ожили
дорогие черты…
Соловей, птица Божия,
научи меня петь, как ты.
СНЕГ НА КРЫШАХ И ВЕРШИНАХ{15}
Ко мне города оборачивались крышами.
Из окон моих даже днями морозными
мне улицы были сырыми и рыжими,
а крыши в снегу — как торт неразрозненный.
Прямо ешь этот снег, соси да похрустывай,
да хрустальные капли роняй на лацканы.
Я помню, я видел, шатаясь по Грузии,
такой же белый, чистый, неласканный.
Внизу он лежит завшивленным рубищем,
а там, рассверкавшись алмазными иглами,
горит по ночам заменяя любящим
лисицу небес, если та не выглянет.
Его, как корону, на темя воздев, звенеть
любо вершинам, светлеть — румяниться…
А почему он чем выше, тем чище и девственней?
А потому, что люди туда не дотянутся.
Не плюют на него и не мочатся,
не скребут его дворники совками-метёлками…
Мне там, на вершинах, замерзнуть хочется
под вечнозелеными елками.
* * * О человечество мое!{16}
Позволь бездомному вернуться
домой, в старинное жилье,
где все родное, все свое,
где можно лечь и не проснуться,
позволь глубин твоих коснуться,
в твое глухое бытие
душой смиренной окунуться.
Чтоб где-нибудь, пускай на дне,
познать паденья и победы,
ласкать подруг, давать обеты
и знать, что в новом сонме дней
еще шумней, еще мутней
клубятся страсти, зреют беды.
Там, на метельных площадях,
под золотым универмагом,
живет задумчивый чудак,
знакомый Богу и бродягам.
Проголодавшись и устав,
он бредит сладостной добычей:
к его истерзанным устам
струится розовый, девичий
пылающий и нежный стан.
Он знает: сто ночей подряд
одно и то же будет сниться.
Он — солнца сын, он бурям рад,
он проходимец, он мне брат,
но с тем огнем ему не слиться,
но, грозным вызовом заклят,
он поднимает жаркий взгляд
на человеческие лица.
Проходит ночь. Химера длится,
кружится вечный маскарад.
Там отличен бандит и плут,
они сидят у сытых блюд,
они потеют и блюют
и говорят одно и то же,
и тушат свет, и строят рожи,
морализируют и лгут,
и до рассвета стонет Блуд,
полураздавленный на ложе.
А между тем, внизу, вдали, —
чей дух живет в речах невнятных,
чей облик в саже и в пыли,
в рубцах стыда, в бессонных пятнах?
Не девочки, но и не жены,
не мальчики и не мужи,
проходят толпы отверженных,
их души просятся в ножи.
Дела идут, контора пишет,
кассир получку выдает.
Какой еще ты хочешь пищи,
о тело бедное мое?
За юбилеем юбилей
справляй, сутулься и болей,
но сквозь неправые проклятья,
скитаясь в зелени полей,
тверди, упрямый Галилей:
«А все-таки все люди — братья!..»
Так я, песчинка, я, моллюск, —
как ни карайте, ни корите, —
живу, беспечный, и молюсь
святой и нежной Афродите.
В губах таится добрый смех,
и так я рад, и так я светел,
как будто сам родил их всех,
что только есть на белом свете.
* * * А! Ты не можешь быть таким, как все{17}, —
вертеться с веком белкой в колесе,
пахать надел, мять молотом металл,
забыв о том, что смолоду летал,
валить леса, где плачет соловей,
да морды бить тому, кто послабей,
да дело знать, да девок обнимать,
да страшным байкам весело внимать?
Не можешь так? Чего ж бы ты хотел?
Низвергнуть плоть? Перелететь предел?
Нет на земле меж городов и сел
того клочка, откуда ты пришел.
Он на звезде, что ты назвал Душой,
а ты везде последний и чужой.
Не хватит в мире горя и тоски,
чтоб ты узнал, как жить не по-людски,
и как роптать, что дал тебе Господь
со дней Адама проклятую плоть.
Мир состоит из женщин и мужчин,
а ты забыл свой мужественный чин.
Им внемлет Бог, как травам среди трав,
а ты меж ними жалок и не прав.
Сокрой свой рай в таилищах лесных
и жизнь отдай за худшего из них.
Пусть светлый дождь зальет твой темный след.
Все остальное — суета сует.
* * * И нам, мечтателям, дано{18},
на склоне лет в иное канув,
перебродившее вино
тянуть из солнечных стаканов,
в объятьях дружеских стихий
служить мечте неугасимой,
ценить старинные стихи
и нянчить собственного сына.
И над росистою травой,
между редисок и фасолей,
звенеть прозрачною строфой,
наивной, мудрой и веселой.
УТРО С ДОЖДЕМ И СОЛНЦЕМ{19}
Хорошо проснуться рано,
до зари глаза продравши,
чтоб, окно тряхнув за раму,
мир увидеть солнца раньше.
Город спит еще и снится
сам себе иным и лучшим.
Дремлют длинные ресницы.
Зори плавают по лужам.
Спят друзья под крышей каждой,
ровно дышится во сне им.
Быт господствует пока что,
эпос явится позднее.
Милый дождик, мелкий, меткий,
золотой, веселый, ранний,
сыплет звонкие монетки
на асфальтовые грани.
Вот он дымкой стал весенней,
до земли не долетевшей,
чтоб фонарики висели
на листве помолодевшей.
Капли с чашечек роняя,
где-то ландыши запахли…
Хорошо ль тебе, родная?
Все наладится, не так ли?..
Между тем взошло, взыграло
в нежном гуле, в алом блеске,
солнце ломится сквозь рамы,
ставни, шторы, занавески.
Солнце! Солнце! Сколько солнца
на полу, в углах, повсюду.
Все горит, звенит, несется.
Я смеюсь! Не верю чуду.
Как, смотря в людские лица,
гладя волосы у женщин,
всех обнять и всем открыться,
души радостью обжечь им.
Сколько их, полуодетых,
подымаясь под будильник,
трет глаза, балует деток,
наспех рвет шнурки ботинок.
И потом, фырча под краном
так, что мнится: ну конец им,
по плечам, бокам багряным
трет мохнатым полотенцем…
Солнце! Солнце! Все проснулись.
Вышли тысячи, которым
расходиться между улиц
по заводам, по конторам.
С лиц слетает беззаботность.
Плоть по делу заскучала.
Солнце! Солнце!
День зовет нас.
Можно все начать сначала.
РОДНОЙ ЯЗЫК{20}
1
Дымом Севера овит,
не знаток я чуждых грамот.
То ли дело — в уши грянет
наш певучий алфавит.
В нем шептать лесным соблазнам,
терпким рекам рокотать.
Я свечусь, как благодать,
каждой буковкой обласкан
на родном языке.
У меня — такой уклон:
я на юге — россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом.
Но в отлучке или дома,
слышь, поют издалека
для меня, для дурака,
трубы, звезды и солома
на родном языке?
Чуть заре зарозоветь,
я, смеясь, с окошка свешусь
и вдохну земную свежесть —
расцветающий рассвет.
Люди, здравствуйте! И птицы!
И машины! И леса!
И заводов корпуса!
И заветные страницы
на родном языке!
2
Слаще снящихся музык,
гулче воздуха над лугом,
с детской зыбки был мне другом —
жизнь моя — родной язык.
Где мы с ним ни ночевали,
где ни перли напрямик!
Он к ушам моим приник
на горячем сеновале.
То смолист, а то медов,
то буян, то нежным самым
растекался по лесам он,
пел на тысячу ладов.
Звонкий дух земли родимой,
богатырь и балагур!
А солдатский перекур!
А уральская рябина!..
Не сычи и не картавь,
перекрикивай лавины,
о ветрами полевыми
опаленная гортань!..
Сторонюсь людей ученых,
мне простые по душе.
В нашем нижнем этаже —
общежитие девчонок.
Ох и бойкий же народ,
эти чертовы простушки!
Заведут свои частушки —
Кожу дрожью продерет.
Я с душою захромавшей
рад до счастья подстеречь
их непуганую речь —
шепот солнышка с ромашкой.
Милый, дерзкий, как и встарь,
мой смеющийся, открытый,
розовеющий от прыти,
расцелованный словарь…
Походил я по России,
понаслышался чудес.
Это — с детства, это — здесь
песни душу мне пронзили.
Полный смеха и любви,
поработав до устатку,
ставлю вольную палатку,
спорю с добрыми людьми.
Так живу, веселый путник,
простодушный ветеран,
и со мной по вечерам
говорят Толстой и Пушкин
на родном языке.
ЯБЛОНЯ{21}
Чем ты пахнешь, яблоня —
золотые волосы?
Дождевыми каплями,
тишиною по лесу,
снегом нерастаянным,
чем-то милым сызмала,
дорогим, нечаянным,
так что сердце стиснуло,
небесами осени,
тополями в рубище,
теплыми колосьями
на ладони любящей.
ДОЖДИК{22}
День за днем жара такая все —
задыхайся и казнись.
Я и ждать уже закаялся.
Вдруг откуда ни возьмись
с неба сахарными каплями
брызнул, добрый на почин,
на неполитые яблони,
огороды и бахчи.
Разошлась погодка знатная,
спохмела тряхнув мошной,
и заладил суток на двое
теплый, дробный, обложной.
Словно кто его просеивал
и отрушивал с решет.
Наблюдать во всей красе его
было людям хорошо.
Стали дали все позатканы,
и, от счастья просияв,
каждый видел: над посадками —
светлых капель кисея.
Не нарадуюсь на дождик.
Капай, лейся, бормочи!
Хочешь — пей его с ладошек,
хочешь — голову мочи.
Миллион прозрачных радуг,
хмурый праздник озарив,
расцветает между грядок
и пускает пузыри.
Нивы, пастбища, леса ли
стали рады, что мокры,
в теплых лужах заплясали
скоморохи-комары.
Лепестки раскрыло сердце,
вышло солнце на лужок —
и поет, как в дальнем детстве,
милой родины рожок.
* * * Любить, влюбиться — вот беда{23}.
Ну да. Но не бедой ли этой
дух человеческий всегда
пронизан, как лучами — лето?
К лучам стремящийся росток
исполнен творческого зуда.
Любимым быть — и то восторг.
Но полюбить — какое чудо!
Какое счастье — полюбить!
И это счастье, может статься,
совсем не в том, чтоб близким быть,
чтоб не забыть и не расстаться.
Когда полюбишь, то, ища
и удивляясь, ты впервые
даешь названия вещам,
творишь открытья мировые…
Дыши, пока уста слиты!
Не уходи, о дивный свет мой!..
И что за горе, если ты
любви не вызовешь ответной?
Идя, обманутый, во тьму,
ты все отдашь и все простишь ей
хотя б за музыку одну
родившихся четверостиший.
* * * Уже картошка выкопана{24},
и, чуда не суля,
в холодных зорях выкупана
промокшая земля.
Шуршит тропинка плюшевая:
весь сад от листьев рыж.
А ветер, гнезда струшивая,
скрежещет жестью крыш.
Крепки под утро заморозки,
под вечер сух снежок.
Зато глаза мои резки
и дышится свежо.
И тишина, и ясность…
Ну, словом, чем не рай?
Кому-нибудь и я снюсь
в такие вечера.
* * * Не то добро, что я стихом{25}
дышу и мыслю с детства, то бишь
считаю сущим пустяком в
се то, что ты, вздыхая, копишь.
Не то добро, что, опознав
в захожем госте однодумца,
готов за спором допоздна
развеселиться иль надуться.
Не то добро, что эта дурь,
что этот дар блажен и долог,
что и в аду не отойду
от книжных тумбочек и полок.
И если даже — все в свой час —
навеки выскажусь, неведом,
строкой случайной засветясь, —
добро опять-таки не в этом.
Добро — что в поле под лучом,
на реках, душу веселящих,
я рос, ничем не отличен
от земляков ли, от землячек.
Что — хоть и холоден очаг,
что, хоть и слова молвить не с кем, —
а до сих пор в моих вещах
смеется галстук пионерский.
Что в жизни, начатой с азов,
с трубы, с костра, с лесного хруста,
не токмо Пришвин и Бажов
меня учили речи русской.
Что, весь — косматой плоти ком,
от бед бесчисленных не хныча,
дышал рекой, как плотогон,
смолой и солнцем — как лесничий.
Что, травы горькие грызя,
и сам горячий, как трава, я
в большие женские глаза
смотрел, своих не отрывая.
Что, вечно весел и здоров
(желая всем того ж здоровья),
не терся у чужих столов я
и не выклянчивал даров.
Что, всей душой служа одной,
о коей сызмала хлопочем,
я был не раз и буду вновь
ее солдатом и рабочим.
* * * Ох, как мой край метели холят!{26}
У нас тепла полгода ждешь,
дождался чуть — и снова холод:
то чешет снег, то лупит дождь.
По наклонившимся колосьям
и оголившимся ветвям
приходит свищущая осень,
и начинается бедлам.
Ее туманами повиты,
не понарошку, а всерьез
все наши лучшие пииты
влюблялись в слякоть да в мороз.
А я до холода не падок.
Едва осиливши нужду,
не вижу проку в листопадах,
добра от севера не жду.
И хоть российские пииты
воспели вьюжные снега,
меня тем пойлом не пои ты:
я зимам сроду не слуга.
Меся подстуженную жижу
и не боясь ее угроз,
до одуренья ненавижу
хваленый музами мороз.
* * * Апрель — а все весна не сладится{27}.
День в день — не ветрен, так дождист.
Когда в природе неурядица,
попробуй на сердце дождись.
Блеснет — на миг — и тучи по небу,
и новый день не удался.
А все ж должно случиться что-нибудь,
вот-вот начнутся чудеса.
И что душе до вражьих происков,
что ей, влюбленной, боль и суд,
когда в лесу сине от пролесков
и пахнет почками в лесу?..
* * * Без всякого мистического вздора{28},
обыкновенной кровью истекав,
по-моему, добро и здорово,
что люди тянутся к стихам.
Кажись бы, дело бесполезное,
но в годы памятного зла
поеживалась Поэзия, —
а все-таки жила!
О, сколько пуль в поэтов пущено,
но радость пела в мастерах,
и мстил за зло улыбкой Пушкина
непостижимый Пастернак.
Двадцатый век болит и кается,
он — голый, он — в ожогах весь.
Бездушию политиканства
Поэзия — противовес.
На колья лагерей натыканная,
на ложь и серость осерчав,
поворачивает к Великому
человеческие сердца…
Не для себя прошу внимания,
мне не дойти до тех высот.
Но у меня такая мания,
что мир Поэзия спасет.
И вы не верьте в то, что плохо вам,
перенимайте вольный дух
хотя бы Пушкина и Блока,
хоть этих двух.
У всех прошу, во всех поддерживаю —
доверье к царственным словам.
Любите Русскую Поэзию.
Зачтется вам.
ВОТ ТАК И ЖИВЕМ{29}
С тенями в очах
от бдений и дум
с утра натощак
на службу иду.
Ах, дождик ли, снег, —
мне все трын-трава, —
в непрожитом сне
спешу на трамвай.
Подруга моя,
нежна уж на что,
не хуже, чем я,
воюет с нуждой.
С зари до зари,
с работы домой —
картошку свари,
посуду помой.
А дома одно:
в вещах недочет,
на крышу окно
и стенка течет.
Устанем, придем,
тут лечь бы в тепле, —
хватает с трудом
на книги и хлеб.
Но лучшую часть
души не отнять:
потухнем на час —
и рады опять.
Ладонь на ладонь,
плевать, что озяб:
была бы любовь
да были друзья б!
Открытый для всех,
от зла заслонясь,
да здравствует смех
в каморке у нас!
Приходят от дел,
от мытарств дневных
и эти, и те,
и много иных.
И спор до утра
под крышей сырой
чуть-чуть не до драк
доходит порой.
И взоры синей
от той кутерьмы,
и много семей
таких вот, как мы.
С пустою мошной
любовь бережем, —
и все нам смешно,
и все — хорошо!
ДИАЛОГ О ЧЕЛОВЕКЕ{30}
— Человек, человек,
божия коровка,
у тебя короткий век,
куцая головка.
— Хоть и мало годов
положила доля,
бьется на сто ладов
сердце молодое.
Голова — не изъян
с ликом ясноглазым.
Что не видно глазам,
то узнает разум.
— Человек, человек,
божия коровка,
сам ишачишь целый век,
а земля — воровка.
— Я — земной, голодал,
работящ и беден,
чтоб расти городам
и смеяться детям.
Ты хоть в небе виси,
коль породы звездной.
Я с землею в связи.
Разлучаться поздно.
— Человек, человек,
божия коровка,
духом слаб, телом ветх,
на ногах веревка.
— По болотам, по рвам,
городя и сея,
я их много порвал
мощью тела всею.
Я огонь высекал,
хоть и был опутан.
Грезил высью Икар.
Разин бился бунтом.
— Человек, человек,
божия коровка,
одному весь свой век
маяться ли ловко?
— Не велик — не беда,
да не так уж мал я.
Как у суши — вода,
У Ивана — Марья.
Я люблю. Отвяжись.
Я тружуся, братец.
Вот вам смерть.
Вот вам жизнь.
Сами разбирайтесь.
ГЕОРГИЮ КАПУСТИНУ{31}
1
Простые, как бы хрустальные,
до смеху и ласк охочие
хорошие люди — крестьяне,
хорошие люди — рабочие.
Задумчивые — на севере
и бешеные на юге,
хорошие люди — все вы,
друзья мои и подруги.
И сад вашей плоти пышен,
и радость в нем бьет ключом…
А мы свои книги пишем,
как воду в ступе толчем.
А мы зато знаем лучше
в дни боя и в ночи ласк,
что главная революция
на свете не началась.
До старости не остынем,
до смерти душа юна,
пылающим и настырным
не будет покою нам.
Не будет нам крова в Харькове,
где с боем часы стенные, —
а будет нам кровохарканье,
вражда и неврастения.
Неприбранных и неизданных,
с дурацкой мечтой о чуде,
нас скоро прогонят из дому.
Мы — очень плохие люди.
2
Дружище Жорка,
поэт Капустин!
Какого черта
ты зол и грустен,
тяжел от жёлчи,
болтлив, издерган?..
А ты — позорче,
а ты — с восторгом —
на даль, на близь ли
хоть лет, хоть весен,
как солнце брызнет
сквозь бронзу сосен,
и вздрогнет встречный
от ветра всхлипа,
и в сонной речке
проснется рыба,
и, куртки скинув,
ряба от пота,
нагие спины
нагнет работа,
и, выйдя в сенцы
с лукавым жестом,
повеет в сердце
ночным и женским.
Задышут травы,
заплещут воды.
Слова корявы
в ушах природы.
Попробуй, молви,
чудес искатель,
о блеске молний,
о лете капель.
По лесу лазить,
на лодке мчаться, —
ведь ты ж согласен,
что это счастье.
Взгляни-ка зорко
под каждый кустик,
дружище Жорка,
поэт Капустин.
До зорь по рощам
броди и топай,
будь прост и прочен,
как дуб и тополь.
Уж если есть нам
чему молиться,
то птичьим песням
в лесах смолистых.
* * * Наш кораблик, — плевать, что потрепан и ветх{32}, —
он плывет в океане и мраке,
а команда на нем из двоих человек,
не считая кота и собаки.
Я опалой учен, мне беда нипочем,
и со мной одна беглая женка.
Золоты ее кудри над юным плечом,
пахнут волосы терпко и тонко.
Мы на острове Ласки сушились от бурь,
пили вина из многих бутылок.
Я, как пахарь и ухарь, пытаю судьбу,
мне любовь моя дышит в затылок.
Мы летим через горы, свистя и божась,
лебединую дрему тревожа.
На борту намалеван нехитрый пейзаж
и веселая русская рожа.
Нас волна смоляная не выдаст врагу,
с шаткой палубы в бездну не скатит.
Удалые друзья на родном берегу
волокут самобраную скатерть.
Об утесы вражды бились наши сердца,
только ты не показывай виду.
Ветру лирики нет и не будет конца,
а ханыгам споют панихиду.
Да поят нас весельем и доброй тоской,
да хранят наши души простые
красно солнышко — Пушкин, синь воздух — Толстой
и высотное небо России.
КАК ПУШКИН И ТОЛСТОЙ{33}
Как Пушкин и Толстой,
я родом из России.
Дни сеткою густой
мой лик избороздили.
Шумлю в лесах листвой,
не выношу кумирен,
как Пушкин и Толстой,
бездомностью всемирен.
Как Пушкин и Толстой,
я всем, к чему привязан,
весельем и тоской
духовности обязан.
С блаженной высотой
мучительную землю,
как Пушкин и Толстой,
связую и приемлю.
Как Пушкин и Толстой,
я с ложию не лажу,
став к веку на постой,
несу ночную стражу.
В обители чужой,
не видя лиц у близких,
как Пушкин и Толстой,
распространяюсь в списках.
Как Пушкин и Толстой,
лелею искру Божью,
смиренною душой
припав к его подножью.
Гнушаясь суетой,
корысти неподвластен,
как Пушкин и Толстой,
я вечности причастен.
Как Пушкин и Толстой,
служу простому люду,
затем что сам простой
от роду и повсюду.
От сути золотой
отвеявши полову,
как Пушкин и Толстой,
служу святому слову.
Как Пушкин и Толстой,
люблю добро и прелесть,
земною красотой
глаза мои согрелись.
С крестьянскою росой
пью ливни городские.
Как Пушкин и Толстой,
Люблю тебя, Россия.
ЛЕНИНУ БОЛЬНО{34}
Лениным звался, а только и славы, что вождь:
жил небогато, таскал на субботнике бревна.
С Лениным рядом в потомках поставишь кого ж?
Ленину больно.