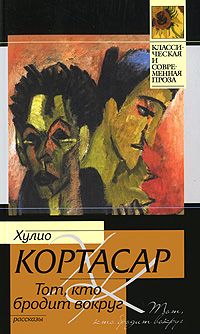Габриэла Мистраль - Избранная проза
Здесь, говорю я себе, в этой оливковой роще, живут, не ведая того, все мои друзья. Останься я в Вальдемосе, каждый день приходила бы беседовать с ними. И не надо ничего больше! Тут мои пророки, мои святые, мои поэты. Вот он -- Исайя, дающий масло, и Рубен, искореженный, отяжелевший, с иссиня-черными ягодами, которые так и сочатся. А вот совсем прямая, тонкая, но стойкая олива -- это моя мать. У оливковой рощи, похоже, нет детей, но это не так, ибо их творит полуденный свет, который весело скользит по ветвям.
Уста олив роняют тишину, большие гроздья тяжелой тишины.
Пилар, оливы под твоей рукою,
легли на холст, как идолы былого
без капли христианского покоя,
умерших тело и живущих слово.
Сухой землей срослись их руки,
лица, немой язык, не облегченный властью
шепнуть, как переполнена темница,
любовью листьев, каменною страстью.
{перевод Н.Ванханен}
Пройдя быстрым шагом километра полтора -- здесь, право, живительный воздух! -- мы садимся передохнуть и угоститься дарами этого тихого края: сладким миндалем и горьковатыми маслинами.
Возвращаемся к вечеру вместе со сборщиками оливок. И старательно пытаемся понять их майоркинский язык -- островной, в котором слышны удары моря, а порой стон волны. На женщинах -- широченные длинные юбки, будто в насмешку над модой Парижа. Юбки эти цветастые, в мягкую складку, а на шее у женщин яркие платки.
Кончается мой первый день в Вальдемосе, и я уже чувствую себя настоящей майоркинской женщиной, той, что в длинной широкой юбке, и той, что пригибает ветвь оливы. Ничто мне здесь не чуждо, я в ладу со всем и со всеми, а это -- почти Счастье!
Перевод Э.Брагинской
Майорка II
На другой день мы идем в Картезианский монастырь. После картезианских монастырей во Флоренции и Милане, ему, собственно, нечем удивить. Роспись в церкви весьма заурядная, аляповатая, и единственное, что восхищает и что каким-то чудом осталось после бесконечных грабежей, -- это великолепные резные кресла на хорах.
За несколько лет до того, как в тихую Вальдемосу попал Шопен, какое-то из либеральных правительств секуляризировало монастырь, и кельи были запроданы частным лицам.
Любопытно видеть эту странную смесь буржуазного с монашеским в стенах бывшего монастыря, который превращен в квартиры на три-четыре комнаты с дверью, ведущей в почти квадратный садик. Кельи, одну за другой, приобрели в собственность денежные люди из Пальмы и других мест. Те, кто сюда приезжает, стараются следовать тому благонравному достойному образу жизни, какой вели здесь монахи, которые однако не были аскетами и ценили красоту.
Широкий каменный коридор привел нас к кельям, где жили в свое время Шопен и Жорж Санд. И нам приходится терпеливо выслушивать смотрительницу -ну как лишить ее этого удовольствия? -- которая увлеченно, на свой лад, рассказывает о давней истории, наделавшей в этом местечке столько шума.
-- Вот тут они и жили, -- говорит она, -- этот музыкант, то ли поляк, то ли русский, а может, француз, по правде, не знаю, но чахоточный, это уж точно. И притащила его сюда женщина, одно слово "сумасбродка". В законном браке они не были, когда об этом здесь узнали, ну скандал -- невзлюбили их и все тут! Посудите сами: из монастыря только-только повыгоняли несчастных монахов, и на тебе -- такая парочка! Да пусть хоть сто раз знаменитые, все равно срам! Она носила короткую стрижку, а к пианисту никого не допускала, никого... Он ходил всегда грустный, как убитый. Нам здесь несвычно, чтобы человек был все время в печали, когда кругом такая благодать! Да и вообще они не понимали нас, майоркинцев. Он привез рояль, представляете, который гремел на весь монастырь. Люди приходили его послушать и очень жалели этого музыканта, а ее -- нет, никогда.
Голос у смотрительницы суровый, возмущенный, будто и сейчас ее оскорбляет присутствие любовников, которые давно переселились в Вечность.
Нам хочется найти хоть какой-то след былых дней. Нынешний хозяин заставил все мебелью и понавешал бездарных современных картин. Вот разве что сад их сохранил что-то от тех времен... Старое апельсиновое дерево, оно, должно быть, видело скорбный профиль мужчины и знаменитую женщину Франции.
Есть еще кельи, которые мне хотелось бы посмотреть. Это собственно, дом художницы Пилар, где жил наш Рубен, не расставаясь со своей индейской печалью, терзавшей его нутро, и с бутылками майоркинского вина -- оно всегда было на столе. Но Пилар сейчас где-то в других краях, и я, увы, не увижу ни ее картин, ни стола, за которым были написаны нетленные строки "Картезианского монастыря". Досадно, но я не расстроена, нет, я знаю, что непременно вернусь на Майорку, увижу все дома и подымусь на каждый холм.
За воротами монастыря мы садимся, чтобы отдохнуть и поделиться впечатлениями. Разговор, конечно заходит об этой знаменитой и несчастной паре. Я никогда не любила Жорж Санд, но мне нравится, как написана "История моей жизни", где она рассказывает обо всем с удивительной откровенностью, надеясь, видимо, вызвать к себе сочувствие...
Жорж Санд выбрала это пристанище для себя и своего больного сына. Шопен захотел быть вместе с ними. Уже носились слухи о его туберкулезе, однако знакомый врач заверил Жорж Санд, что ничего опасного нет.
Разумеется, когда появилась здесь столь странная семья, благопристойный порядок встретил ее в штыки. Люди не могли понять эту женщину с двумя детьми, которая поместила рядом с ними своего больного любовника.
Десять страниц своей "Истории" Жорж Санд посвящает жизни в Вальдемосе и, восхищаясь гениальностью своего друга, одновременно говорите нем жестокие слова: "Он, как оказалось, просто невыносим в болезни. С него будто содрали кожу, и даже от прикосновения мушиного крыла выступает кровь. Крик горного орла здесь, на Майорке, унылый свист ветра, заснеженные дали, все это сказывалось на его настроении куда сильнее благоухания цветущих апельсиновых деревьев и прелестных арабских напевов майоркинских крестьян. При его нервной системе -- легко возбудимой, он непредсказуемо остро воспринимал, казалось бы, самые простые вещи. Наше житье в монастыре Вальдемосы стало для него настоящей пыткой, а для меня истинным страданием. Ему чудилось, что монастырь наводнен призраками. Бывало, когда мы с детьми возвращались домой к вечеру, я находила его за роялем в странном виде: волосы взъерошены, глаза безумные, широко раскрытые. Но там Шопен сочинил свои прелюдии. Все до единой -- истинные шедевры! Одну из них он написал ночью во время грозы, когда мне пришлось возвращаться в Вальдемосу из Пальмы, с трудом преодолевая потоки воды. Это было настоящее наводнение! Я нашла его совершенно обезумевшим, руки и ноги, как лед. Он играл свою новую прелюдию, заливаясь слезами. Увидев нас, Шопен подскочил с отчаянным криком: "О-о, я знал, что вы все умерли и я тоже умер, давным-давно утонул в озере. И капли этой ледяной воды скатывались по моей груди..." Это были капли, стучавшие по кровле, -- пишет Жорж Санд, -- и его творенье пронизано неподражаемой гармонией дождевых капель".
Бедный Шопен! Лишь чувственность свела вместе столь различных людей, и в наказание за этот обманный союз один подле другого были глубоко несчастны. Они делили кров и пищу, но не сумели делить любовь. Брезгливое чувство к человеку больному усиливалось в ней с каждым часом. Любовь с сияющими очами, что не видит любимого обезображенным, и целует уста, не замечая, что они тронуты болезнью, никогда не была ее любовью. Ей было неведомо терпение, с которым не спят до полуночи, чтобы прикрыть больную грудь, и не было у нее чуткости, обостряющей слух, дабы каждой жилкой отозваться на стон близкого человека, будто он исходит из ее собственного нутра. Она не спешила к создателю ноктюрнов, который весь горел по ночам и которого "ранила до крови даже тень".
Пожилая женщина из Вальдемосы, напичканная всяческими скандальными историями, все еще рассказывает о переполохе, который вызвала у местных жителей эта женщина с непривычно короткой стрижкой.
Тут дело еще в том, что испанец, живущий в местечке, которое стало курортом, разительно отличается от швейцарца или француза с Лазурного берега: испанец не умеет быть ни равнодушным, ни снисходительным к чужакам, которые, приезжая на время, живут бок о бок с его домом. Обостренное чувство собственного достоинства не дозволяет ему быть терпимым.
Ну, а наш Рубен? Тоже гость Вальдемосы... Почти все местные жители его помнят и наперебой спешат рассказать о нем.
Он был высокий, -- говорят, -- грузный, и ходил среди олив тяжело, точно вконец уставший человек. А речь похожа на вашу, с таким же акцентом, который мы еще помним.
Была у него подруга, глухая, и зря он выказывал ей такую нежность, она, эта Франсиска Санчес ездит теперь по миру, собирая все подряд о человеке, который ее воспел, чтобы придать себе больше весу.
Он всегда был какой-то уставший, говорят майоркинцы. А я говорю себе: "Да! Уставший от поэтических Америк, которые увязли в трясине дурного вкуса и в своих бескрайних пастбищах. Уставший от женщин, которых любил одержимо, точно лунатик, и слишком поздно понял, что облик его, в отличие от стихов, не был столь благороден. Уставший от восточных религий, которые не приносили ему успокоения. Уставший от разлада в душе, где теснились семь душ, постоянно враждуя друг с другом. Уставший от своей древней крови, от времен Несауалькойотля, от литературной ярмарки, чей немолчный галдеж слушал сквозь дрему, точно больной тигр. Уставший от никарагуанской нищеты. Уставший беспредельно!"