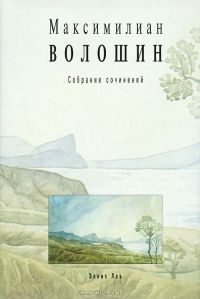Максимилиан Волошин - Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931
<1899>
«Народ – огромный, музыкальный…»
Народ – огромный, музыкальный
И очень сложный инструмент.
Лишь композитор гениальный,
Удачный выбравши момент,
С такою силою могучей
Ударить может по струнам,
Что вырвет целый ряд созвучий
Своим идеям и словам.
Когда же сам он, звуков полный,
Могучей музыкой звучит,
Так кто ж удержит, кто смирит
Его рокочущие волны?
Но вы, хотевшие лишь только,
Когда он сам был звуков полн,
Сдержать напор свободных волн…
<Январь 1900>
Берлин
«Стихи мои! Как вехи прожитого…»
Стихи мои! Как вехи прожитого
Я ставил вас на жизненном пути.
Но я так часто лгал, любуясь формой слова,
Что истину мне трудно в вас найти.
Поэзия так лжет! У каждого искусства
Такой большой запас
Готовых образов для выраженья чувства,
Красивых слов и фраз.
Красивые слова так ластятся, играют,
Послушно и легко ложатся под перо…
<Апрель 1900
Москва>
Отрывок о Тиволи
Фонтаны, аллеи… Запущенный сад…
Развалины старого дома…
Я всё это видел когда-то давно…
Мне всё это с детства знакомо…
Должно быть из сказок, наивно-простых,
Украшенных мыслью немецкой,
Которые в жизни цветут только раз
На почве фантазии детской.
И тают, как снежный узор на стекле,
При первом дыхании мысли…
В аллеях зеленый сырой полумрак,
Пушистые ветви нависли.
Горячий, трепещущий солнечный луч
Пробился сквозь ветви платана…
Блестя в темноте, и поет и звенит
Холодная струйка фонтана.
Зацветшие мраморы старых террас,
Разросшийся плющ на пороге…
В таинственных гротах одетые мхом
Забытые, старые боги…
Везде изваяния лилий – гербы
Фамилии д’Эсте старинной.
В развалинах весь восемнадцатый век:
Манерный, кокетливый, чинный,
Век фижем и мушек, Ватто и Буше,
Причудливый век превращений…
В сыром полумраке зеленых аллей
Скользят грациозные тени…
Чуть слышно атласные платья шуршат…
Со шпагой, изящен и ловок,
Идет кавалер – и мутятся ряды
Напудренных белых головок…
Проносится легкий, кокетливый смех
По дальним извивам дорожки…
По мраморным плитам широких террас
Скользят чьи-то белые ножки…
О, бедные ножки прекрасных принцесс,
Ласкавшие старые плиты!
Давно уж великой народной волной
Вы сломаны, стерты и смыты…
Другая эпоха – другой колорит:
Суровый, как бронзы Гиберти.
Ряды кипарисов и синих олив –
Печальные символы смерти.
Спокойно и тихо… Фундаменты стен.
Всё срыто, разрушено, голо…
И только горячее солнце палит
Цветные мозаики пола…
<До 20 января 1901>
«Под небом Италии вы рождены…»
Под небом Италии вы рождены,
Мои серебристые песни!
И блеском и светом они рождены,
В них всё отразилось широко:
И нега и синь средиземной волны,
И яркие краски востока.
Проникнуты солнечным зноем они…
Пусть веет от этих страниц же
Тем «югом», который так страстно манил
Великого Фридриха Ницше.
Тем «югом» искусства, ума, красоты,
Свободным, языческим югом,
К которому с детства стремились мечты
С мистическим странным испугом.
И всё, что ребенком манило меня,
Чем сердце бывало томимо,
Всё то воплотилось позднее в одном
Сияющем имени Рима.
И вот я свободен. Весь мир предо мной
И всюду мне вольная воля.
С ликующей песней, с мешком за спиной
Я шел по долинам Тироля.
На бархате ярко-зеленых лугов
Красивые церкви белели,
А выше, на фоне сияющих льдов,
Синели зубчатые ели.
«В Италию!» – громко звенело в ушах,
«В Италию!» – птицы мне пели,
«В Италию» – тихо шуршали кругом
Мохнатые старые ели.
Я шел через мхи в полумраке лесном,
Где сыростью пахло и гнилью,
Где тонкою нитью висел водопад,
Дробясь серебристою пылью.
Кровавым потоком меж темных громад
Сползают альпийские розы,
Сверкает и воет внизу водопад,
Склоняются ветви березы.
Родная березка! она здесь в горах
Казалась такой иностранкой,
Изгнанницей бедной в далеком краю,
Застенчивой русской крестьянкой.
В траве – бесконечные точки цветов,
Как в светлых пейзажах Беклина –
Мильоны фиалок, ирисов и роз,
Нарциссов, тюльпанов и тмина.
Всё выше! Веселая зелень долин
Уходит от вашего взгляда.
По узким краям недоступных стремнин
Сползает далекое стадо.
Коровы и овцы глядят на людей
С большим любопытством своими
Большими глазами. Я как-то в горах
Совсем очарован был ими.
Они всей толпой окружили меня,
Почтительно руки лизали;
Я даже подумал сперва, что они
Стихи мои, верно, читали.
Друзья же мои убедили меня,
Что я глубоко ошибался,
Что это звук «м-м-э», повторяемый мной,
Им чем-то родным показался.
<Июнь 1901
Майорка>
«В истории много магических слов…»
В истории много магических слов.
И тайная сила в их смысле
Влияет в течение целых веков
На ход человеческой мысли.
Италия! Рим! Где найдутся слова
С таким же громадным значеньем?
Да! Рим был разбойничьим страшным гнездом,
Но гнёзда бывали страшнее,
И корень величия Рима не в том,
А в том, что он грабил идеи.
И каждой идее, добытой мечом,
Давал он и власть и значенье
Всемирности. Рим был огромным котлом,
В котором свершалось броженье.
И сколько мой детский неопытный ум
Ни мучили классики в школе,
И сколько они ни терзали мой мозг,
Ни били, ни жгли, ни кололи,
Стараясь мою пробужденную мысль
Зарезать словами своими, –
Но даже они не могли омрачить,
Унизить великое имя.
<Лето 1901
Майорка>
«Солнце дымкой даль заткало…»
Солнце дымкой даль заткало,
Чайки в воздухе летят,
Всеми красками опала
В море искры блестят.
На песок сырой, играя,
Волны синие скользят,
Белой пеной потрясая,
И смеются и звенят.
И десятками дорожек,
Полусмытых от воды,
Босоногих детских ножек
Отпечатались следы.
Обхожу я осторожно
Лапки маленьких зверей…
<Лето 1901
Майорка>
Девятнадцатый век
Его отец был гордый, умный
Старик. Вполне аристократ,
Любивший образ жизни шумный
И дрессированных солдат.
Любивший роскошь и почет,
Игру ума и блеск острот,
Искусство, знанье и свободу,
Но не дававший их народу.
Его считали атеистом,
Но атеистом не был он:
Философ, скептик и масон,
Он был, скорей всего, деистом.
Поклонник знанья и манер, –
Его оракул был Вольтер.
Он жизнь свою окончил крахом,
Подобно многим из людей,
И разлетелись, стали прахом
Обломки царственных затей.
Необычайные явленья,
Отца согнавшие во гроб,
Ребенка слабого рожденье
Сопровождали. Гороскоп
Руссо с Вольтером составляли,
Им Кант немного помогал,
И Шиллер гимн ему слагал,
Неоконченное. Наброски 525
И сказку первую (едва ли
Ее тогда он понимал)
Ему сам Гёте рассказал.
Та сказка «Фауст». Так в начале
Его великую судьбу
Явленья эти предвещали,
Но предвещали и борьбу.
И в самый миг его рожденья
Сиявший золотом дворец,
Где умирал его отец,
Объяло пламя разрушенья.
И знамя красное свободы
Подняв высоко над толпой,
Порабощенные народы
Туда ворвались. Их толпой
Был унесен ребенок-сын
В водоворот людских пучин.
Его судьбой толпа играла,
И Революция сама
Его кормилицею стала.
И грудью собственной она
Ребенка чуждого вскормила;
И эта пламенная грудь
Его согрела, возродила
И сил дала на трудный путь.
Она, как мать, его ласкала
С безумной нежностью в очах,
Его качала на руках
И Марсельезу напевала.
И колыбельной песнью был
Ему тот гимн народных сил.
Но скоро был наставник новый
Ему судьбой капризной дан.
Солдат упрямый и суровый,
Матреубийца и тиран,
Сын Революции Великой,
Умевший твердо управлять
Народной массой полудикой
И буйным силам выход дать.
И легковерные народы
Сдержав железною уздой,
Он успокоил их войной
И бедным призраком свободы.
Свою же собственную мать
Велел подальше он убрать.
Он был его молочным братом
И сам судьбу его решил:
«Ребенок должен быть солдатом»,
И тот, едва еще ходил,
Как приступил он к воспитанью:
Велел команду исполнять
И обучал маршированью.
Ребенка стала занимать
Такая жизнь. Его игрушки
В то время были барабан,
Труба, знамена разных стран
И каски, ружья, сабли, пушки.
Он, как мы все, – ни дать ни взять
Любил в солдатики играть.
(Еще не написана. Но по общему смыслу необходима).