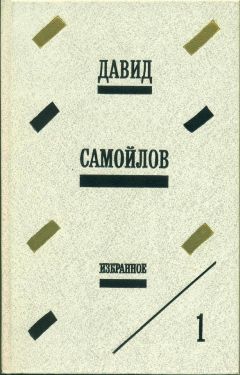Давид Самойлов - Избранное
Молодой поэт все меньше чувствует себя своим в эмигрантской среде. Его тянет на родину. В поисках единомышленников он уезжает в Париж, сближается с «Союзом возвращения на родину». Одновременно вступает в члены Французской компартии. Цветаева пишет об Эйснере тех лет, что он ей «решительно нравится. Смесь ребячества и настоящего самобытного ума. Лично — скромен, что дороже дорогого» (из письма 1923 года).
Жаль, что приходится лишь называть главные вехи его пути, не имея возможности рассказать, как мужественно, самобытно и ярко раскрывался он на каждом этапе жизни.
1936 год. Начало Гражданской войны в Испании. «Через Испанию на Родину» — формулирует для себя Эйснер.
В январе 1940 года он, наконец, приезжает в Советский Союз. В апреле его арестовывают. Сперва — Воркута, потом — вечная ссылка в Казахстан. Перед отправлением в ссылку он пишет свое последнее стихотворение (1948).
Он возвращается из ссылки через пятнадцать лет, пятидесятилетним человеком.
Ему предстоит еще три десятка лет жизни. Он напишет книги, статьи, очерки, обретет семью, породит сына, возникнут новые дружбы, возродятся старые.
Алексей Владимирович умер в 1984 году. Как драгоценный подарок, храню я машинопись «Конницы» с дарственной надписью автора.
Алексей Эйснер всю жизнь искал формулу счастья. Он был человеком страстной веры, он искал и находил ее.
1987
Хлебников и поколение сорокового года
Наша поэтическая компания называла себя поколением сорокового года. Мы осознали себя новым поэтическим поколением после финской войны. Нас было шестеро: М. Кульчицкий, П. Коган, Б. Слуцкий, С. Наровчатов, М. Львовский и я. К поколению относили мы и близких: Н. Глазкова, Ю. Долгина, М. Луконина, М. Львова, Н. Майорова, Б. Смоленского, еще нескольких молодых поэтов.
Однажды, собравшись, решили выяснить, кто из поэтов предыдущих поколений оказал на нас наибольшее влияние. Каждый написал на листочке десять имен. Подвели итог. В первую тройку входили Маяковский, Пастернак и Хлебников.
Вкус наш в то время был не символистско-акмеистический, а футуристско (лефовско)-конструктивистский. Хотя хорошо знали и Гумилева, и Мандельштама, и Ходасевича. Меньше Ахматову.
Хлебникова тогда нетрудно было достать. Можно было даже на студенческие деньги собрать пятитомное собрание сочинений. У всех был том неизданного Хлебникова. А нередко у букинистов можно было отыскать первоиздания «Досок судьбы», «Ладомира», футуристических сборников вроде «Дохлой луны».
Хлебникова читали усердно, внимательно. Многое знали наизусть. Влиял он на каждого из нас по-разному, разными периодами и сторонами своего творчества. С интересом читали манифесты, подписанные Хлебниковым, и вообще все о нем. К примеру, редкую книгу Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец».
Читали мы и сенсационную книжицу Альвека «Нахлебники Хлебникова», где автор упрекает Маяковского и Асеева в воровстве у Хлебникова. Альвеку мы не поверили. Да и сами Маяковский с Асеевым признавались в том, что Хлебников оказал на них огромное влияние. И, может быть, именно они и натолкнули нас на чтение этого замечательного поэта.
Маяковский, Асеев и другие футуристы были первым поколением поэтов, на которых оказал влияние «дервиш русского имени». Обериуты — вторым. Мы — третьим.
Каждое поколение воспринимало свое.
Футуристы — слом старых поэтических систем, масштабность хлебниковской социальной утопии, необычность поведения, языковой эксперимент. Из поисков поэтического языка каждый извлекал свое: Асеев — корневые сопоставления, Маяковский — словотворчество, Крученых — заумь.
Обериуты словесные сдвиги Хлебникова использовали как орудие для сдвига действительности, для обе- риутской иронии. Сам Хлебников вовсе не ироничен. Он простодушен. Простодушие хлебниковской интонации, его «отмытый» эпитет Заболоцкий и Олейников используют так, как взрослые детскую речь для создания детского анекдота. Хармс реализует заумь, как абсурдизм, что вовсе не соответствует цели Хлебникова проникнуть в смысл звуков речи.
На поэтов моего поколения Хлебников тоже влиял по-разному и в разной степени, но в этом влиянии преобладали не словесный эксперимент (хотя и это было), не возможность сдвинуть речь в сторону иронии (нам в ту пору не очень свойственной), а скорее образная система, чистота интонации и внутренний пафос, снимавший пафос внешний, присущий многим поэтам довоенной поры.
Меньше всего из Хлебникова воспринял Павел Коган, хотя очень его любил, часто цитировал наизусть.
Более явственно влияние Хлебникова на Кульчицкого. «Русь — ты вся поцелуй на морозе» — эпиграф к самому значительному произведению погибшего на войне поэта поэме «Самое такое», где сложно сочетаются интонации Маяковского и Хлебникова.
Хлебниковский элемент чувствуется в военных стихах Наровчатова, особенно в его польском цикле, где поэта привлекает стихия славянской речи.
Слуцкий высоко ценил и всю жизнь перечитывал Хлебникова. Но для того, чтобы выделить из тугого сплава его поэзии хлебниковские черты, нужно предпринять детальное исследование. Думаю, что оно будет результативным. Уже зрелым поэтом Слуцкий написал стихотворение о захоронении праха Хлебникова на Новодевичьем кладбище. Если память мне не изменяет, он при этом присутствовал, и стихотворение написано по живому впечатлению.
Принято прямо из Хлебникова выводить манеру Ксении Некрасовой. На мой взгляд, здесь некоторые черты сходства обманывают. Есть поэты, которые по своему устройству мало что-либо воспринимают от других поэтов. Такова и Ксения Некрасова. Возможно, что она почти и не читала Хлебникова. Однажды я спросил ее, читает ли она книги. Она ответила:
— Очень редко. И их не помню. Во мне бродят только тени книг.
Она иногда совпадала с Хлебниковым в детскости, в непосредственности интонации, в свежести образа, в свободе от правил стихотворства.
Хлебниковцем у нас еще до войны считался Николай Глазков. Он сам от этого не отказывался. Он и в манере поведения где-то отражал простодушие Хлебникова, однако и не без иронии, ему присущей. Корни его поэзии в значительной степени питались не столько русским футуризмом вообще, сколько «будетлянством». Названия поэм «Хихимора», «Поэтоград» прямо отсылают к Хлебникову. Оттуда же идет интонационная прозрачность многих строк Глазкова. Есть и прямые сопоставления:
И мир во всем многообразии
Вставал, ликуя и звеня,
Над Волгой Чкалова, и Разина,
И Хлебникова, и меня.
Соблазнительно было бы вывести глазковскую иронию из хлебниковских сдвигов, как это было у обериутов. Но это вопрос сложный. Я не мог бы утверждать, что на поэтику Глазкова большое влияние оказали обериуты. Глазков тоже ироничен. Но ирония его другого назначения и другого происхождения. Чем больше читаешь Глазкова, особенно на фоне нынешней поэзии, тем чаще убеждаешься, что его ирония происходит от стыдливости, от желания скрыть слишком явный пафос. Ему близок пафос Хлебникова, близок пафос довоенного и военного периода творчества поэтов нашего поколения. О патетичности Хлебникова и Глазкова, кажется, еще мало написано.
Анна Андреевна Ахматова как-то сказала мне, что Хлебников плохо писал до революции и хорошо после (сопоставляя его с Маяковским). Мне не показалось, что она права, может быть потому, что на меня больше влиял ранний Хлебников.
Хлебниковым заболел я году в 1939, переболев Пастернаком. Может быть, после причудливых построений Пастернака потянуло на непосредственную простоту речи раннего Хлебникова.
Неужели, лучшим в страже,
От невзгод оберегая,
Не могу я робким даже
Быть с тобою, дорогая?
(«И и Э»)
Тогда я увлекался первобытностью, хотелось добраться до основ речи и поэтического образа, счистить с них нагар литературы. Мне нравились первозданность поэм «И и Э», «Вила и Леший», «Шаман и Венера». Пытался подражать интонации этих поэм.
Учась у Хлебникова, написал стихи «Пастух в Чувашии». Вот строки из него:
Он был божественный язычник
Из глины, выжженной в огне,
Он на коров прикрикнул зычно,
И пело эхо в стороне.
А вот из тогдашней же поэмы «Мангазея» («Падение города»):
Шаман промолвил: «Быть беде!»
И в бубен бил, качаясь.
А слезы стыли в бороде,
В корявых идолах отчаясь.
Позже хлебниковское уходило из моих стихов, как уходило из поэзии всего поколения, включая и Глазкова. Но навсегда Хлебников остался одним из наших любимых учителей.