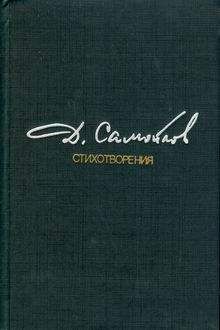Давид Самойлов - Избранное
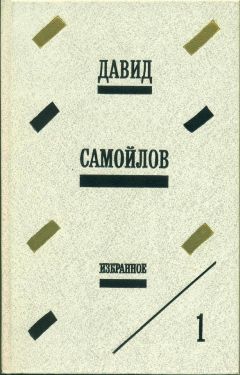
Обзор книги Давид Самойлов - Избранное
ДАВИД САМОЙЛОВ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Том первый
О времени слышнее весть
У Давида Самойлова между стихами, которыми он начинал, которые первыми напечатал и теми, вслед которым пришла известность,— немалый срок.
Начинал в ИФЛИ вместе с поколением, молодым, талантливым и еще не знавшим, что оно — военное:
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.
(«Перебирая наши даты...»)
Послевоенные судьбы тех, что вернулись, складывались различно. Выход их первых книжек растянулся на полтора десятилетия. Промежутки между ними, как паузы,— молчание ушедших.
Самойлов не торопился. Не торопил себя, чтобы себе не изменить. Попробовал голос и замолчал, ушел в перевод. Вот почему запоздала первая книга 1958 года. Запоздала, чтобы появиться вовремя, в свой срок.
Растет известность. Не быстро, как не быстро за «Ближними странами» следуют сборники: «Второй перевал» в 1963-ем, спустя еще семь лет — «Дни».
Уже есть свой читатель, есть имя, но не такое, которое, как молва, бежит впереди стихов. Резонанс имени — критерий успеха в годы «поэтического бума». Меняется тогда форма вопроса о новой книге: вместо «вы читали?» — «вы достали?»
Самойлова не достают, его читают. Я помню, как первое небольшое избранное — «Равноденствие» (1971), мгновенно исчезнувшее с московских прилавков, и год спустя можно было вдруг заметить в стопке поэтических книг за пределами столицы. Последующие сборники, однако, и на нестоличных прилавках попадались редко — как случайность и удача: «Волна и камень», «Весть»...
Названия для книг выбирают по-разному. Один автор спешит объявить, что читатель вправе ожидать, и выносит на обложку краткий тезис, понятный без дальнейших объяснений. Другой в качестве тезиса — к поэтическому сборнику — возьмет название одного из вошедших в него стихотворений. Третий...
Почему Самойлов называет свою книгу — «Весть»? Весть от кого или о чем?
Начинаешь читать стихи и помнишь об этом пока что непонятном, неразгаданном названии. И думаешь, что автор наверняка рассчитал так, чтобы оно не забылось, не ушло, отложившись в памяти. И в первом же стихотворении (или небольшой поэме?) «Снегопад» наталкиваешься на строку: «Но зрелости слышнее весть...»
Разгадка? С одной стороны, как будто бы да: ведь в поэме — взгляд в собственную или похожую на свою молодость. И завершается она признанием в том, что если лета и не клонят к суровой прозе, то заставляют внимательнее вслушиваться в ее уроки:
Учусь писать у русской прозы,
Влюблен в ее просторный слог,
Чтобы потом, как речь сквозь слезы,
Я сам в стихи пробиться мог.
Но, с другой стороны,— весть о зрелости слышится в поэме не лирическому герою, а героине, и нужно ли в этих словах немедленно различать автобиографический смысл? Тем более, что в стихах Д. Самойлова эта весть прозвучала давно и внятно. А тут еще во втором стихотворении книги, то ли помогая понять название, то ли еще более запутывая, вновь повторяется, окончательно убеждая в неслучайности своего появления, то же слово:
И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих...
Это уже совсем о другом!
Теперь думаешь, насколько это вообще в манере Д. Самойлова не настаивать на своей мысли, не подкреплять ее бьющим в глаза тезисом, а подать незаметной, невыделенной строкой, где ее легко пропустить, невнимательно пробегая глазами. Автор как будто не опасается быть непонятым из-за невнимания, то ли рассчитывая на внимательного читателя, то ли полагая, что стихи сами скажут за себя без формулировок и тезисов. Даже без окончательно разгаданного названия.
Однако, пусть и без окончательной разгадки, тема сборника возникла, и мы не ошибемся, ожидая услышать в нем лирическую весть, постоянную в поэзии Самойлова, весть, которой настойчиво сопутствует мысль об уходящем времени, чреватая почти навязчивыми воспоминаниями.
В «Вести», как и в других книгах Самойлова, много стихов, написанных по памяти. И по собственной, биографической памяти, по памяти литературной и исторической. Их нельзя делить, как нельзя делить опыт поэта на пережитое и прочитанное, потому что культура и история для него в равной мере пережитое, свое. Будь о лирический герой военного «Снегопада», или Дон Жуан, или Дельвиг или Арап Петра Великого... Я бы даже сказал, что только окончательно отступая в прошлое, делаясь необратимыми, события становятся для Самойлова поэтическим поводом. А приобретают значение, «как только станут в стих».
Если и можно как-то делить стихи Самойлова, то не по сюжетному признаку: написанные на темы личные или историко-литературные, а по отношению ко времени: стихи, продиктованные воспоминанием и рожденные настоящим моментом, подтолкнувшим мысль, ощущение. Эти сиюминутные стихи — по большей части беглые наброски, фрагменты, где мелькает обрывок неопределившейся интонации, проговаривается сомнение, мысль... Кстати, часто сомнение в возможностях самой поэзии, тютчевское сомнение в том, можно ли понять и быть понятым с помощью слова:
Вдруг странный стих во мне родится,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица.
И время тает или длится.
Нет! Невозможно научиться
Себя и ближних понимать!
(«Вдруг странный стих во мне родится...»)
Странно слышать сомнение в поэтическом слове, признание в затрудненности поэтической речи от поэта, который открывает сборник «Снегопадом», где властвует столь для Самойлова характерная свободно льющаяся интонация. Я не поручусь за точность термина «поэма» по отношению к целому ряду его стихотворных произведений, но, как только в стихи Самойлова входит воспоминание, пропадает сомнение в слове, возникает влекущая, требующая пространства интонация. Она именно требует пространства, чтобы читатель мог вслушаться в легкую поступь русских ямбов во всем разнообразии меняющегося способа рифмовки и получить впечатление строгого и сложного поэтического порядка, который то создается, то разрушается с предусмотренной небрежностью. Внося постоянные поправки в классическую форму, автор напоминает о свободном и дружеском своем отношении с традицией.
О своем праве принадлежать ей, войти в нее и о никогда его не покидающем чувстве дистанции между великим и современным. Так в самой интонации родится ирония.
Но виднее всего поэт в выборе слова. Давно уже Самойловым сказано: «И ветер необыкновенней, //Когда он ветер, а не ветр». Встречая у него же такую строку — «И парного тумана душистое млеко...»,— невольно думаешь, не есть ли те давние слова о ветре предупреждение самому себе против излишней поэтичности. От него же, однако, слышишь и другое:
Поэзия пусть отстает
От просторечья —
И не на день, и не на год —
На полстолетья.
(«Поэзия пусть отстает...»)
И, невзирая на эти предупреждения, Самойлов пользуется и разговорным и высоким поэтическим словом. Не только пользуется, но ставит рядом. Вот почти мальчик, но уже фронтовик, оказавшийся в отпуске, объясняется в любви случайно встреченной женщине, и поэт говорит: «Его несло. Она внимала...» Есть ли расчет на комически снижающий, пародийный эффект от сближения этих далеких слов?
Естественно предположить, что в такого рода странном сближении пострадает поэтическое слово, в него ударит пародийный разряд, сбивая ложную красивость. Но ложной красивости нет, поэтому нет и ожидаемого снижения. Если и родится разряд, то не пародийный, а иронический, ударяющий в просторечное слово и в героя, к которому относится. Когда у Самойлова жизненная проза сталкивается с поэзией, то побеждает поэзия, но не отстраняя от себя обыденного, а вовлекая его в свою орбиту.
Особенно заманчиво проследить, наметить путь от первоначального впечатления, ставшего поводом, к сложившемуся образу, за которым развертывается повествование. У Д. Самойлова в цикле стихов «Пярнуские элегии» об эстонском городе Пярну, где живет поэт, есть маленький фрагмент:
И жалко всех и вся. И жалко
Закушенного полушалка,
Когда одна, вдоль дюн, бегом —
Душа — несчастная гречанка...
А перед ней взлетает чайка.
И больше никого кругом.
(«И жалко всех и вся. И жалко...»)
Одно из лучших небольших стихотворений. В нем много самойловского: и в интонации с ее длящейся мелодией и неожиданными обрывами, и в сострадании... Только откуда душа-гречанка на прибалтийском побережье? Конечно, греческий миф о душе, о Психее, но здесь несколько неожиданный в сочетании с полушалком, хотя поэзия Самойлова и привычна к таким странным сближениям в слове и в образе. Однако буквально через две страницы, когда начинаешь читать (в сборнике «Весть») «Сон о Ганнибале», о жене-гречанке, с которой поселился в том же Пярну-Пернове Арап Петра Великого, о ее трагической судьбе, находишь дополнительные объяснения. Понимаешь, что это была не просто, как в классической поэзии прошлого века, мифологическая отсылка, а параллель живая, историческая.