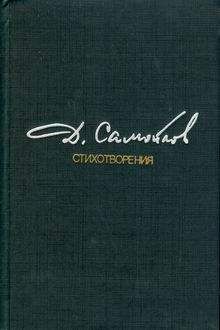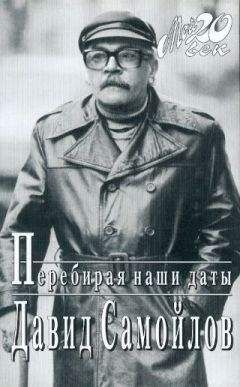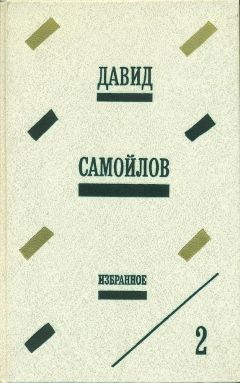Давид Самойлов - Избранное
Так до последней строфы, где возникает и сразу же узнается характерная — длящаяся, влекущая интонация... Интонация, заслужившая самойловскому стиху репутацию раскованности, непринужденности.
Да, Самойлов меняется. Он меньше ценит свои прежние достоинства, ищет новых, которые при ближайшем рассмотрении оказываются для него не такими уж новыми. Сквозь элегическую задумчивость знакомого лица проступает первоначальная юношеская серьезность выражения. За беглостью впечатлений — живописная, предметная осязаемость вещей.
В какой-то момент знакомства с Самойловым такой его облик казался неожиданным, потому что привыкли к другому. Привыкли,
что в его поэзии преобладает не описание, не изображение, а впечатление, что он избегает не только прямого называния, видения вещей, но и прямого разговора о главном, отчего стихи кажутся уклончивыми, недосказанными. «Смутный мой рассказ...»
В этом рассказе тем не менее постоянна весть о времени, но ее нужно расслышать. Время возникает не в хорошо известных, легко опознаваемых приметах, а в поэтическом переживании. Вот почему поэму, написанную, в сущности, о времени и о себе, Самойлов может закончить признанием: «Важней всего здесь снегопад...» — потому что снегопад завладел образом, связал впечатления. Сквозь его пелену все остальное только — контуром, силуэтом. Все остальное недоговаривается.
Недоговаривается главное...
У И. С. Тургенева есть рассказ «Часы». Поздний рассказ о самом начале столетия. Действие начинается в марте 1801 года — время смерти Павла I. Но рассказ не об этом: о часах, полученных подростком в подарок от крестного, "дурного" человека, плута и выжиги, иметь подарок от которого — стыдно. И как ни жаль расстаться с часами, от них нужно избавиться. Их передаривают, закапывают в землю, прячут, наконец, бросают в воду, ибо они имеют свойство возвращаться, преследовать.
Как будто, пока идут эти старинные часы, длится прежняя — павловская — эпоха, не наступает новый век, не возвращаются из Сибири сосланные, те, кого ждут так нетерпеливо, чтобы полной грудью вдохнуть свободу. «Дней Александровых прекрасное начало...»
Рассказ о часах, отмеряющих Время.
Самойлов также приучил своего читателя к тому, что главное недоговорено. Оно в подтексте, оно схвачено боковым зрением, отмечено деталью. Поэт приучил к такому ходу мысли, но теперь он все чаще обманывает ожидание в последних сборниках: «Голоса за холмами», «Горсть»...
Первый из них вышел в Эстонии, напомнив, что место действия все то же, что и в «Заливе», хотя и переживается оно поэтом иначе. Прежде он видел себя на берегу моря — на берегу вечности, беспредельности; теперь пространство суживается, теснит, обрекает на одиночество, куда с трудом доносится эхо дружественных голосов.
Поэт наедине с собой, со своими мыслями, в кругу отношений самых по-человечески близких и самых трудных:
Веселой радости общенья
Я был когда-то весь исполнен.
Оно подобно освещенью —
Включаем и о нем не помним.
Мой быт не требовал решений,
Он был поверх добра и зла...
А огненная лава отношений
Сжигает. Душит, как помпейская зола.
(«Веселой радости общенья...»)
Последние сборники — книги трудных признаний, непривычно прямых и откровенных высказываний, тем самым являющих нам не только изменившуюся поэзию, но и новую трудность: говорить о ней, ее понимать.
Прежний Самойлов ускользал, прятался в искрящем, играющем слове, в легкой изящной интонации. К стиху было боязно прикоснуться, и критики постоянно подпадали под его обаяние, стремясь не столько оценить, сколько сохранить вкус поэзии в собственном слове. Это казалось самым важным, а прояснить смысл, договорить — ощущалось как трудность, как опасность.
В новых же сборниках Самойлов просто не оставляет возможности критику что-то договорить за него; он все договаривает сам — и о своих трудностях, и о своих сомнениях... Одна из главных трудностей — и в прямоте признаний сохранить искренность, не разрушить поэзию.
Самойлов более не выдает поэзию за игру, где каждое стихотворение — маска, роль, а каждая роль — радость перевоплощения. Нет сил и желания перевоплощаться, когда даже «играть себя мне с каждым днем труднее» («Последний проход Беатриче»).
Рифмы, приходившие так легко и бездумно, тяготят. Мелькает иронически-правдоподобное: «Надо учиться писать без рифмы...» И уже совершенно серьезно:
Добивайтесь, пожалуйста, смысла,
Проясняйте, пожалуйста, мысли.
Понимаете? Все остальное
Не имеет большого значенья.
(«Добивайтесь, пожалуйста, смысла...»)
Сравнительно не так давно Самойлов, говоря об ощущении возраста, о меняющихся пристрастиях в поэзии, признался: «Понятнее поэт Мартынов Леонид...» Судя по новым стихам, не только понятнее, но и поэтически ближе.
Все, что хочется сказать о новом Самойлове, о его мыслях и настроении, хочется предложить не от себя, но цитируя строки поэтических признаний. Стихи, однако, требуют отношения, оценки. Она дается не просто. Все время оглядываешься назад, сравниваешь: прежде и поэт и читатель ощущали себя куда вольнее, раскованнее... Прежде речь лилась, теперь мысль расщепляет стих на строки, строфы, обрывает его течение полувопросом, полусомнением... Но и замкнуть стихотворение, придать ему, даже краткому, завершенность — дается с усилием: «Все фразы завершаем многоточием...» («На рассвете»).
А где же былая легкость разговорных, соскальзывающих с пера афоризмов, из стихотворения переходивших в речь и ведущих уже самостоятельную жизнь: «Он тоже заговорщик //И некуда податься, кроме них...», или «Хочется и успеха,— // Но на хорошем поприще...», или «У зим бывают имена...»
Теперь такого рода фразы не то чтобы редкость, их почти нет. Нет этих резких, графически прочерченных линий, нет и многого другого, привычного, от чего поэт то ли отказался, то ли... «Иногда мне кажется, что я разучился писать. Это может обозначать конец творчества. Но до сих пор означало для меня назревание новой темы. В такие периоды то, что мы называем поэтикой, распадается и как бы не существует...» — такими словами начинает Давид Самойлов предуведомление ко второму разделу последней своей на сегодняшний день книги — «Горсть».
Даже в сравнении с предшествующей она есть заметный шаг преодоления — прежнего мастерства, прежней, привычной, манеры.
Самойлов, безусловно, изменился. И все-таки, если взглянуть на перемены, припоминая все, что мы знали о Самойлове — и о его зрелости, и о его поздно напечатанных ранних стихах,— перемены последних лет не покажутся такими уж непредсказуемыми. Умение говорить, избегая прямого называния; умение видеть, не поворачивая головы; умение быть серьезным, не обнаруживая серьезности... Но в случае необходимости — умение выйти из этой роли, чтобы сказать со всей прямотой:
Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.
(«Вот и все. Смежили очи гении...»)
Сказано ли кем-нибудь о поэзии в последнее время откровеннее и жестче? А это старые стихи — двадцатилетней давности. Они теперь стали заметнее, а через них — и истоки новой манеры поэта.
Однако и в прежней не будем принимать легкость на веру и уж во всяком случае не будем принимать ее за легковесность.
Самойловская легкость, самойловская ирония привлекали одних и отталкивали других, полагающих более отвечающей Духу времени неулыбчивую торжественность, с которой — о великом, о свершениях, о нравственных исканиях... Искания, правда, редко увенчивались находками; свершения, по крайней мере художественные, вызывали сомнение, как и мысль о современном величии: «Вот и все. Смежили очи гении...»
С этим никак не могли согласиться те, что мнили себя новыми гениями, обосновывая свои притязания числом полученных премий и тиражностью изданий. Их не устраивало как содержание разговора, так и сам тон, предложенный Самойловым. Тон определял многое, по нему узнавалась позиция — отношение к великой традиции, к русской классике, коей на верность присягали все, однако по-разному. Для одних она — пространство, открытое каждому движимому знанием и любовью. Для других — ревниво охраняемая зона, куда вход по спецпропускам, удостоверяющим величие вошедшего и право на установление ему памятника или уж во всяком случае прижизненного бюста. Первые непринужденны, раскованны и не претендуют более, чем на роль собеседника. Вторые напыщенны, торжественны и бронзовеют на глазах.