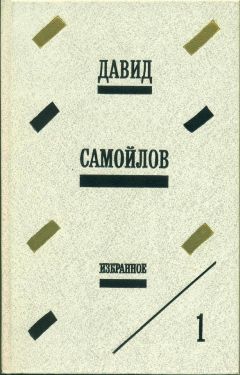Давид Самойлов - Избранное
...В начале войны, попав в эвакуацию в Самарканд, мои родители узнали, что Василий Григорьевич с семьей Миши находится в Ташкенте. Написали ему письмо. Получили ответ. Постоянно обменивались письмами. В начале 1942 года с радостью получили известие о награждении Василия Яна Сталинской премией за «Чингисхана». Книга о нашествии, вышедшая три года назад, оказалась ко времени — актуальной и нужной. Послали Василию Григорьевичу поздравительную телеграмму.
В мае этого же года отец мой тяжело заболел сыпняком. Узнав об этом, Василий Григорьевич срочно выслал ему деньги на лечение и питание. Слышал я, что премию свою почти всю он роздал.
...Вскоре после возвращения из армии, в начале 1946 года, я навестил Василия Григорьевича. Он жил на Суворовском бульваре в квартире Лидии Владимировны. Война его состарила. Он стал грустнее и медлительнее. Но, как и прежде, был внимателен и добр.
Был ухожен заботами Лидии Владимировны. Жил в старомосковском интерьере. Сидел в старинном кресле, одетый в бархатную блузу с бантом, на голове узбекская тюбетейка.
Я прочитал ему тогдашние невызревшие стихи о войне. Он не стал критиковать их за несовершенство. Интересовался их содержанием. Он понимал, что я полон надежд и энергии и, видимо, в этом видел какую-то мою перспективу.
Из Германии я привез Василию Григорьевичу небольшой подарок — две книжки стихов Рильке. Знал, что он любит этого поэта и что в молодости общался с ним.
Показывал мне переплетенную тетрадку, куда вписывал сонеты разных авторов. Это было то, что сейчас называют «хобби».
Еще несколько раз после войны навещал я Василия Григорьевича. Грусть, самоуглубленность, какая-то отрешенность были в нем.
Нередко посещала нас Евгения Васильевна. От нее узнавали о жизни отца.
А потом помню не очень многолюдные похороны на старом, небольшом московском кладбище...
17 января 1975 года в Малом зале Дома литераторов отмечалось столетие со дня рождения Василия Яна. У меня сохранилась запись: «Я сказал: Ян понимал культуру как гуманизм, а гуманизм как систему поведения. Он писал о том, что тирания слабее культуры».
1987
Наброски к портрету
Я впервые увидел Марию Сергеевну через несколько лет после войны, в обстановке для нее необычной: в Литовском постпредстве нескольким переводчикам вручались грамоты Верховного Совета.За банкетным столом напротив меня сидела хрупкая большеглазая женщина лет сорока, бледная и как будто отрешенная от всего происходящего. Впоследствии я узнал, как мучительны были для нее многословные чествования и официальные мероприятия. Она чувствовала себя здесь чужой.
Она была хороша, хотя почему-то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее была усталость, одухотворенность и тайна. Я попробовал с ней заговорить. Она ответила односложно.
Мне сказали, что это переводчица Мария Петровых. Больше о ней я тогда ничего не знал. Мало знали о ней и в литературных кругах, с которыми я соприкасался. Мы встречались иногда в Клубе писателей, раскланивались. Никогда не заговаривали друг с другом.
Однажды в Клубе Павел Григорьевич Антокольский подозвал меня к столику, где сидел с Марией Сергеевной. Она протянула мне руку, маленькую, сухую, легкую. Назвалась. Назвался и я.
Павел Григорьевич любил оживленное застолье. Еще кого-то подозвал, заказал вина. Возник какой-то веселый Разговор.
Павел Григорьевич был особенно приподнят, остроумен, вдохновен. Мария Сергеевна говорила мало, негромко, мелодичным приятным голосом. Она была другая, чем в Литовском постпредстве. В ней чувствовалась внутренняя оживленность, внимание ко всему, что говорилось, особенное удовольствие доставляли ей речи и шутки Павла Григорьевича.
Деталь, которая мне вспомнилась и которая характеризует женственность Марии Сергеевны: она всегда была скромно (чаще в темном) и необычайно уместно одета.
С этого вечера мы встречались уже как знакомые. Она даже как-то высказалась по поводу одной из моих первых публикаций, передала мнение Ахматовой, с которой была близка. Ее слова помогли мне отважиться на встречу с Анной Андреевной. Но это уже другой сюжет.
Именно эти предварительные обстоятельства способствовали быстрому нашему сближению, когда Петровых, Звягинцева и я были назначены руководить семинаром молодых переводчиков во время одного из мероприятий Московского отделения Союза писателей. Петровых и Звягинцева давно дружили. Вероятно, именно Вера Клавдиевна «втянула» Марию Сергеевну в перевод с армянского.
Семинар был рассчитан на неделю, но так оказался интересен для участников и руководителей, что продолжался и дальше. Мы регулярно встречались раза два в месяц (потом реже) в продолжение двух лет, а может быть, и дольше.
На семинаре читались переводы и стихи. Порой приходили почитать молодые поэты, входившие в славу. Отношения были самые нелицеприятные. Хвалили друг друга гораздо реже, нежели ругали. Но все выступления были горячими, искренними, заинтересованными. Обижаться было не принято.
Мария Сергеевна и Вера Клавдиевна в резкой критике участия не принимали, часто брали обиженного автора под защиту.
Иногда, когда что-то им очень не нравилось, смущались, стыдились за того, кто написал нечто дурное или безвкусное.
Обычно первым подводил итоги обсуждения я. Тогда я был намного самоуверенней и задорней, чем сейчас. Рубил сплеча. Меня участники семинара между собой называли «Малютка Скуратов».
Вера Клавдиевна что-то растерянно гудела под нос, не то одобряя, не то осуждая меня. Мария Сергеевна, взволнованная, слушала молча. Изредка, если я слишком уж зарывался, осаживала:
— Ну что вы, Давид. Это уж слишком.
В заключение часто выступала она. Она была доброй, но не «добренькой». Умея не обидеть, достаточно твердо давала оценку тому, что ей не нравилось, но с большим удовольствием отмечала достоинства обсуждаемого.
Сама очень ранимая, понимала всякую ранимость и умела сказать главное, не обижая автора. Впоследствии с ее твердостью столкнулся и я — она несколько раз была редактором моих переводов.
Когда постепенно семинар угас — отчасти потому, что некоторым не под силу был его накал, отчасти потому, что многие уже не нуждались в постоянном творческом руководстве,— многие из нас подружились.
Несколько верных друзей и учеников приобрела на семинаре и Мария Сергеевна.
Наши с ней отношения тоже сложились и укрепились благодаря совместным занятиям.
Не могу назвать нашу дружбу слишком тесной. Она основывалась на взаимной любви и уважении, общих вкусах и интересах и общем деле. Мария Сергеевна никогда не посвящала меня в тайны своей жизни, не делилась подробностями своего прошлого. Она вообще мало говорила о себе. Никогда не читала стихов. Только изредка жаловалась, что стихи не получаются. «Нелюбовь к признаньям скорым»,— сказала она о себе. Не могу, однако, сказать, что у нашей дружбы были какие- то четкие пределы. Мы могли сказать друг другу многое или даже все, ибо мало было людей в моей жизни, к которым я относился бы с большим доверием, чем к Марии Сергеевне. Просто так сложилось, что о многом мы не говорили. Впрочем, скорей она, чем я. Мне случалось прибегать к ее душевному опыту в нескольких случаях, когда нравственные решения были для меня трудны.
Я бывал регулярно у Марии Сергеевны в доме со скрипучей лестницей на Хорошевском шоссе, в ее деревянной скромной квартирке. Мария Сергеевна кормила Ужином, наливала мне водки. Сама только пригубливала. Просила читать стихи. Всегда очень эмоционально отзывалась на них.
Однажды навестил на Хорошевке Ахматову, кочевавшую в ту пору по Москве, потому что место ее у Ардовых на Ордынке было занято. Мария Сергеевна из деликатности при нашей беседе не присутствовала. Она знала, что Анна Андреевна больше любит разговоры с глазу на глаз.
Обихаживать Анну Андреевну в беспорядочной Квартире и без всякого умения хозяйствовать ей было трудно. Да и вообще нелегко, наверное, было жить рядом с Ахматовой. Но Мария Сергеевна старалась и только Как-то вскользь пожаловалась: трудно. Она относилась к Ахматовой с восхищением и громадной любовью. Та говорила о ней с нежностью. Называла: Маруся. Высоко ценила ее поэзию.
А я, представить сейчас трудно, не знал тогда стихов Петровых. Когда-то прочитал ее журнальную публикацию. Но она не запомнилась. И как поэта оценил Петровых, только прочитав ее маленькую книжку, вышедшую в Армении.
В Армении ее высоко почитали как переводчицу, и оригинальные ее стихи получили там признание раньше, чем в России.
Трудно писать о Марии Сергеевне. Ведь все, что говорится о ней,— говорится впервые. Я рассказываю детали. А сам образ еще не намечен, хотя бы приблизительно. И возможно, по недостатку материалов он будет выстроен по ее стихам. Ну что ж, личность поэта — его стихи. А несовпадение земного облика с этим высоким образом, в сущности, случайность. И Мария Петровых предстанет перед будущими поколениями не в отрыве от своих стихов, а только в единстве с ними.