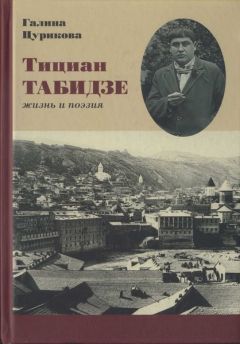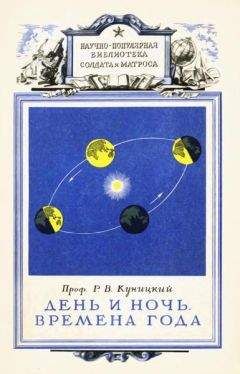Галина Цурикова - Тициан Табидзе: жизнь и поэзия
Блуждая под киммерийским небом здесь, вблизи пыльной и скучной Анапы, Тициан вспоминал годы юности:
…И вопрошаю мглистую скифскую ночь:
Куда делась наша юность и наш восторг (очарование, упоение)?
Кто обветрил нашу запекшуюся («сухую» — зачеркнуто) рану
И не дал возмужать нашему вдохновению?..
Скоро в Тифлис, как прежде (некогда) Важа Пшавела,
Я привезу переметными сумами стихи.
Но больше стихов несу я горечи с собою,
Которой усердно меня заправили на родине.
Клянусь я скорбной тенью Овидия,
Что я ближе к тебе, чем в старину (раньше).
Мечтаю с тобой по Руставели (проспекту) пройтись, рыдая в стихах,
и вспомнить позабытые строки.
Вспоминаю то время, когда с тобой встретились, как с истым
Лоэнгрином,
белой яблоней по Белому мосту ты приплыл, как лебедь…
Вспоминаю рыцаря, вечного данника стиха,
Что даже в Кутаисе не замечал рассвета…
Август 1925 года. Анапа… Илаяли — таинственная незнакомка из романа Кнута Гамсуна «Голод», воплощенная романтическая «мечта».
Вспоминаю Тбилиси…
Молочное утро и Вардисубани[19].
Россыпь слов,
Водопады стихов,
Илаяли.
Струны Саят-Новы
Во вздыбленном песней духане.
О Али! Ты сберег ли то пламя
Любви и печали?
Грозный год…
Мы — голландцы летучие
В бешеном шквале.
Плачет сердце,
Летит светлячком на ветру,
Илаяли…
Сквозь годы доносится звон колокола с горы святого Давида, и Скифия снится…
«Скифская элегия» написана в сентябре 1926 года.
Овидий и Пушкин пришли на память, и виделся серый, в тумане тонущий город Петра. Тициан никогда в Петербурге не был, ни потом — в Петрограде. Знал его по рассказам Али Арсенишвили, а больше по книгам. «Гибнущий город, он был или не был, или он рухнул только вчера?»
…Александр Македонский, с его разноплеменным войском. Не он ли, пройдя по скифским степям, победил воинственных амазонок? (Про амазонок задуман сценарий для Наты Вачнадзе. «Каким ослепительным потоком хлынула бы с экрана красота амазонских лучниц и всадниц на взмыленных конях!»)
…скифские орды и рати ислама.
Сегодня: все то же небо и те же тучи. Тучи седой Киммерии… Придут и уйдут племена, и высохнут реки. Но что однажды в себе ощутил поэт — навсегда останется в жилах его стиха:
Разве я кем-то из дому изгнан?
Сам добровольно кинул отчизну, —
Вот и брожу по скифской стране,
Да не поможет чужбина мне.
Но Киммерия нынче близка мне —
Дикие степи, голые камни…
Иль это пушкинский горький стих —
Первопричина скорбей моих?
Или слепец настроил бандуру
И обошел Христа ради базар.
Или собака завыла сдуру?
Или я сам дал волю слезам?
Детство ли вспомнил? Юность ли прожил?..
Сердце мое бандурист растревожил:
Что же он плачет, бедный слепец, —
Миру всему пророчит конец?
Словно я ждал еще с колыбели
Ночи такой, непогоды такой, —
Скифы на море песню запели…
На сердце — смута и непокой.
Дочери посвящено стихотворение «Танит Табидзе» — 1926 год:
Саламбо, босоногая, хрупкая,
Ты привязанною за лапку
Карфагенской ручною голубкою
Ходишь, жмешься и хохлишься зябко…
Обращение к истории здесь — не прием, но — логика чувства, почти житейская ассоциация: имя дочери — Танит, данное ей когда-то в честь карфагенской богини, повлекло за собою цепь исторических и литературных ассоциаций; в них обнаруживало себя душевное состояние поэта, круг его не названных, но поэтически опосредствованных переживаний. В своем переводе Борис Пастернак, отступая от оригинала в деталях, выделяет центральный драматический момент в цепи поэтических образов-ассоциаций:
Мысль моя от тебя переносится
К Карфагену, к Танит, к Ганнибалу.
Он на меч свой подставленный бросится
И покончит с собой, как бывало.
Сколько жить мне, про то я не ведаю,
Но меня со второго апреля
Всю неделю тревожат, преследуя,
Карфагенские параллели.
Переводчик нагнетает напряженность в атмосферу стиха и завершает стихотворение строками, в которых выражено очень характерное для Тициана Табидзе настроение, не высказанное, однако, с тою же определенностью в оригинале:
Спи, не подозревая ни малости,
Как мне страшно под нашею крышею,
Как я мучусь тоскою и жалостью
Ко всему, что я вижу и слышу.
Перевод Б. Пастернака отличает высокая поэтичность и напряженный лиризм; и вместе с тем, в нем опущена большая часть образных мотивов-ассоциаций, почти весь литературно-исторический реквизит стихотворения. Все это сохраняется в другом переводе — Бенедикта Лившица:
Саламбо на алых ножках голубя,
Ты — что крови карфагенской след.
В мыслях нежно полыхает полымя,
Затонувшей Атлантиды свет…
Это значительно более точный и все же менее выразительный перевод. В нем передан свойственный Тициану Табидзе ход поэтической мысли, его ощущение жизненных связей:
Красноногий голубь мой на привязи,
Той же ты посвящена Танит.
Тщетно Ганнибал судьбе противится:
Меч его его же поразит.
Так апреля в день второй, дитя мое,
Я пишу и, глядя в глубь веков,
Вижу Карфаген без стен, без знамени
И с богини сорванный покров…
Стихотворение, написанное в день рождения Тициана — 2 апреля, обращено в глубь веков, и образы его тревожны: свет погрузившейся в океан Атлантиды, пораженный собственным мечом Ганнибал, беззащитный Карфаген и — начисто опущенный Пастернаком — «таинственный покров», сорванный с карфагенской богини Танит (чудодейственное покрывало богини, священный «заимф», упавший с неба, частица самого божества — в нем сила, слава и величие Карфагена, — смотри об этом роман Г. Флобера «Саламбо» — одно прикосновение к этому драгоценному покрывалу грозило смертью); покров, сорванный с богини влюбленным в Саламбо (жрицу богини Танит) варваром, воином, полководцем… Неопределенность символов — неясность тревоги, угнездившейся в сердце поэта. Его взгляд, устремленный в века, в самом деле углубляется в душу: он видит не разрушенный Карфаген, лишенный защиты богини, он видит себя самого в своем доме:
Я в Тбилиси, но в душе, как яблоня,
Плачет мой Орпири и сейчас,
Мальдороровой кричащей жабою
Кличет златоуст обоих нас.
Но беспечно спишь ты и не ведаешь,
Как я этими измучен бредами.
Орпири — поэтическая крепость Тициана Табидзе; «жаба Мальдорора», «орпирский златоуст» — голос его встревоженной совести. Бенедикт Лившиц в своем переводе воспроизводит поэтические детали. Пастернак в деталях небрежен:
Я в Тбилиси, но дерево всякое,
Травка, лужица — гонят отсюда,
И лягушки весенние, квакая,
Шлют мне весть с деревенского пруда…
Изящно и психологически убедительно переводит Пастернак тревожно-символические образы оригинала в почти бытовой аспект: Тициан действительно помнил всю жизнь деревенские лягушачьи хоры (милая лирическая деталь!); только в этом стихотворении нет никаких лягушек, — есть измучившая душу таинственная «жаба Мальдорора», зовущая вернуться к душевным истокам, сближающая трагический Карфаген и цветущие яблони детства («Как слезы глаз моих — они мне издали»), — об этих яблонях идет речь, а не о «всяком дереве». Тот же Пастернак увидел и понял этот образ в стихотворении «Не я пишу стихи…». А здесь он этим образом пренебрег, заменив плачущие белыми лепестками яблони безликим «деревом».
Борис Пастернак отказался от книжной условности поэтических образов-мифов; в своем переводе он воплотил лирическую непосредственность оригинала. Там, где Лившиц расшифровывает поэтический «код» стихотворения, Пастернак предлагает читателю поэтический «результат»; удаленные от оригинала в деталях, переводы его точны в передаче скрытой лирической сути. Может быть, они оба по-своему правы, но Пастернак имеет в глазах читателя важное преимущество: его стихи — не отдают переводом; перевод Пастернака читается как «оригинал».
Стихи Тициана Табидзе почти у всех переводчиков сохраняют «свое лицо»; вместе с тем в них особенно ощутима «индивидуальность» каждого переводчика: выразительная точность и отрешенность от самого себя Бенедикта Лившица, властная самостоятельность Пастернака, мягкий лиризм Сергея Спасского, экспрессивность Павла Антокольского, замысловатость Леонида Мартынова, классичность Льва Озерова…