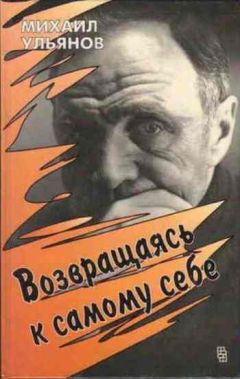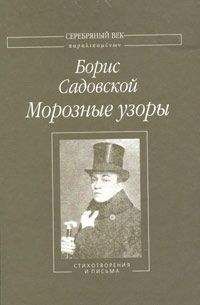Борис Нарциссов - Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы
Так вцепилась в 1940 году советская власть и в Нарциссова: химик? офицер? Быть тебе отныне советским офицером, расстрелять потом успеем (эта мысль даже не особо скрывалась). Но на фронте всякое бывает. В 1943 году Борис Нарциссов угодил в немецкий плен. Не курорт, но и не концлагерь: Нарциссов снова (и вполне правдиво) мог доказать, что родина его – Эстония, а к СССР он отношения не имеет. Немцы хозяйственно отправили оного эстонца, химика к тому же, на сланцевые разработки на его родину – в Эстонию (правда, к этому времени они уже почти проиграли войну). В 1944 году «эстонец» Нарциссов оказался в Германии, потом – на территории, занятой союзниками (во французской зоне), ну, а дальше (1950-1953) была Австралия, дальше были эвкалипты и звезда Канопус почти точно над Южным Полюсом, были новые стихи… и в конце концов, пересекши три океана, добрался Борис Анатольевич до последней родины, до США – там тоже были нужны химики. Зашуршали стихи, и через тридцать лет после первой публикации у Нарциссова наконец-то вышел поэтический сборник «Стихи» (Нью-Йорк, 1958; 96 стр.; 300 экз.). Поэту было пятьдесят два года, но его творческая биография только начиналась. Даже в поэтическом переводе он успел оставить след – в первой же его книге был неординарный перевод «Улалум» Эдгара По, поздней перевел он кое-что с эстонского, но не очень много: он не хотел терять свои поэтические годы.
Последующие четыре сборника Нарциссов выпустил так, что стало ясно: это – не написанные только что стихи, это то, что скопилось в душе и в письменном столе за годы «печатного отсутствия» в литературе. Второй сборник «Голоса» (1961), наполненный эсхатологическими и отчасти оккультными мотивами; третий, «Память» (1965), с его фантастическим присвоением двойной фамилии ночному небосводу – г-н Мигуев-Звездухин, – понемногу стал выдавать поэтические пристрастия Нарциссова: его любимым поэтом оказался Бунин, столь назойливо непопулярный по обе стороны границы среди сторонников хоть «парижской ноты», хоть социалистического реализма. Здесь Нарциссов неожиданно близко сошелся во мнениях с В. В. Набоковым, с творчеством которого «цветочный поэт» сходился часто (хотя бы в одной любви к шахматам). Только жизнь человеческая коротка для того, чтобы успеть что-то, кроме самого главного. А для Нарциссова главным была литература, не только поэзия, но порой и проза; можно лишь пожалеть, что времени на новеллистику ему почти не хватило. Четвертый сборник Нарциссова «Подъем» (1969) и выпущенный уже после выхода на пенсию (1971) сборник «Шахматы» (1974) закрепили за Нарциссовым место одного из самых заметных поэтов русского Зарубежья. Но собрать пять сборников на одной полке по силам лишь тому, кому их сам автор подарит, а это дело почти разорительное. Интерес к Нарциссову рос, но росли и его годы, пора было собрать из своего творчества что-то итоговое.
Этим «итоговым» стал немалый том его стихотворений «Звездная птица» (Вашингтон, 1978), начинавшийся разделом «Новые стихотворения» и продолженный всеми пятью изданными до того сборниками. Двадцать лет «книжного» присутствия в русской литературе и отстоящая от нее в прошлое на тридцать лет дата первой публикации его стихов недвусмысленно говорили: перед нами творческий отчет за полвека серьезной работы.
…Однако том, выведший Нарциссова в первый ряд зарубежных поэтов, стал последним, вышедшим при его жизни. Валентина Синкевич в некрологе вспоминала, как сказал он ей в одном из последних телефонных разговоров: «Пожелайте мне самой скорой смерти». Поэт не был религиозен, но и в смерть в общем понимании тоже не верил: «я точно знаю, что это не конец» – Смерть была для него избавлением от болезни и от болей, смерть сулила ему встречу с родными и близкими, уже ушедшими за ее порог.
Ему нимало не был страшен голый и слепой мальчик на пыльном чердаке, кричащий одно кошмарное слово «южас», да и жуткий призрак гавайского вулкана Мауна Кеа, «белая дева», представлялся рядовым явлением. В отличие от действительно страшненького Юрия Одарченко, Нарциссов не пугался цепляющихся к нам по ночам в темных и хлороформных переулках «кокодрилов»: было это всё, было раньше, как и встречающийся у него «размахай» – ближайший родич тех размахайчиков, которых так любил рисовать на полях рукописей Георгий Иванов. Нарциссов знал силу своей волшебной фамилии: нарцисс, окропленный лучами звезды Канопус, лишает сил всех небритых вампиров, всех чудовищ Антарктиды, и нет у них власти над тем, кто нарциссом властно укажет на шахматную доску и прикажет играть. Полагаю, не одно нечестивое чудище в подобной ситуации либо сбежало от Нарциссова, шепча с конца к началу текст первой попавшейся молитвы, а то и хуже: повиновалось, село за столик и послушно проиграло свою партию и то, что заменяло ему душу.
Уже после смерти поэта (в ночь с 26 на 27 ноября 1982 года) вышла еще одна тонкая книга – «Письмо самому себе» (Нью-Йорк, 1983). Книга оказалась недоставаемой в темные годы андроповского правления и никому не нужной в годы Перестройки. Я был озабочен изданием четырехтомника русской эмигрантской поэзии первых двух волн («Мы жили тогда на планете другой». М., 1994— 1997), собирал материалы, и «посмертный Нарциссов» был мне отчаянно нужен. Адрес вдовы поэта, Лидии Александровны, мог измениться, но ведь мог остаться и прежним. Я рискнул написать ей письмо обыкновенной почтой (до интернета было еще далеко-далеко) и через некоторое время вынул из почтового ящика пакет. Там было не только письмо от Лидии Александровны, но и нужная книга она лежит сейчас передо мной, на ней теплый автограф и дата: «Июль 1990». Эта чудесная, пусть и недописанная, книга открыла нам другого поэта: именно она кончается стихотворением «Двойники», без которого непредставим самый мир русской «лимитрофной», русской эмигрантской поэзии.
Времена хоть и не канатом, но всё же связывались. А ведь Лидия Александровна Нарциссова (1913-2004), урожденная Горшкова, дочь стеклопромышленника, прожила после этой даты еще 14 лет. Она знала, что стихи мужа возвращены России. И терпеливо ждала отдельного издания его произведений в России. Счастливая супруга, мать, бабушка и прабабушка знала – год-другой значения не имеет. Спасибо вам, Лидия Александровна, за разрешение на издание этой книги!
Мы не так уж сильно запаздываем. Да и думается, что это издание — не последнее.
…А кокодрил?..
… да ну его в темный переулок. Пусть живет как может, если уж прицепился, если уж без него русскому человеку не выстоять, не выдюжить, дом не построить, строфу не дописать.
Октябрь 2009
Примечания
1
НЕНИЯ — похоронная песня или причитание полуэпического, полулирического характера у древних греков и римлян. Возникнув из причитаний по умершим родственникам, Н. (название возникло в Фригии, в Малой Азии) стала обычной принадлежностью пышных похорон, где ее пели уже наемные плакальщики. У римлян Н. исполнялись под аккомпанемент тибии (род кларнета). Н. начинала главная плакальщица; ее песню подхватывал хор. Тексты Н. до нас не дошли. Как плачи (см.) других народов, античные Н. несомненно содержали преувеличенные похвалы покойнику и бессвязные сетования; недаром античные писатели называют эти песни «нелепыми и нескладными».
2
Ведогони — души, обитающие в телах людей и животных, и в то же время домовые гении, оберегающие родовое имущество и жилище. Каждый человек имеет своего ведогоня; когда он спит, ведогонь выходит из тела и охраняет принадлежащее ему имущество от воров, а его самого от нападения других ведогоней и от волшебных чар. Если ведогонь будет убит в драке, то человек или животное, которому он принадлежал, немедленно умирает во сне. Поэтому если случится воину умереть во сне, то рассказывают, будто ведогонь его дрался с ведогонями врагов и был убит ими. У сербов — это души, которые своим полетом производят вихри. У черногорцев — это души усопших, домовые гении, оберегающие жилье и имущество своих кровных родичей от нападения воров и чужеродных ведогоней. ЮЖНЫЕ славяне так называли незримых духов, сопутствующих людям до смерти. Во время сна они исходят из человека и охраняют его имущество от воров, а жизнь — от неприятелей или других, недобрых, ведогонов. Между собою эти духи дерутся, и ежели в драке ведогон убит, то и человек, хозяин его, вскоре умирает. Ведогонь— по верованиям черногорцев и сербов, живущий в человеке дух, который во время крепкого сна может покидать на время тело и странствовать по белу свету; то, что В. в это время видит, после пробуждения от сна кажется человеку сновидением. Ведогони могут даже драться друг с другом, и если чей-нибудь В. в драке погибнет, тогда и человек уже более не просыпается и умирает. Польские крестьяне говорят, что душа покидает человека, на время — во сне или навсегда — при смерти, в виде мыши. Когда мышь возвращается назад к спящему человеку, тот ее глотает и только тогда просыпается. На берегах Адриатического моря существует подобное же поверье; здесь В. является домовым гением, оберегающим родовое имущество и жилище. Не всякий человек имеет своего В., но только тот, который рождается в сорочке. В некоторых местностях Сербии ведогонем называется кровожадное мифическое существо, тождественное с вампиром. Стихийный первоначально характер ведогоней виден из того, что, по сербскому поверью, когда поднимается буря, это значит, что ведогони дерутся. В Белоруссии до сих пор верят, что каждый мальчик получает при рождении сестрицу — сорку, а каждая девочка — братца, братека, которые остерегают их от несчастий и искушений. Поскольку люди всегда норовят дурные свои поступки и побуждения как-то оправдать, то и приписывают их этим духам, которые то же самое, что ведогоны древних славян. Ведогон (сербск. и черногор.), по народн. поверью дух, живущий в человеке могущий во время сна покидать тело. Не всякий имеет своего В., а лишь родившийся в сорочке. Порой В. смешивается с вампиром, волколаком. Удача, как уже было сказано, представляла собой главную ценность, которой мог владеть человек (или род). Удачи - а не счастья или материального благополучия - просили у богов; Удачу берегли как ценнейший их дар; на приобретение или улучшение Удачи были направлены многие магические технологии. Нередко такие технологии были связаны с персонификацией Удачи в образе божества, связанного с конкретным человеком. Такой персонифицированный аспект Удачи назывался на Северо-Западе фетч (др.-англо-сакс. fetch), фюльгья (др.-сканд. fylgja) или ведогон (слав.); эти традиционные представления были позднее заимствованы и христианством, где персонифицированная Удача превратилась в ангела-хранителя.