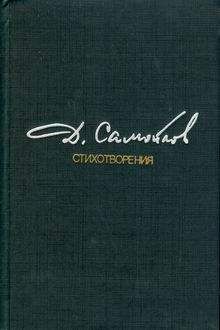Давид Самойлов - Избранное
Ода
России нужны слова о России,
Поскольку пути у нее не простые.
России нужны слова о правде,
Поскольку живет она правды ради.
России нужны слова о мире,
Поскольку недругов мы сломили.
России нужны слова о хлебе,
Поскольку живет она не на небе.
Живет не на небе? А может быть — в небе,
Поскольку так широки ее бреги.
Но ей не нужны слова о мести,
Поскольку хочет славы и чести.
Но ей не нужны слова о злобе,
Поскольку низвергнуты злобные боги.
А ей нужны слова о дороге,
Где новые вехи и новые сроки.
России нужны слова о великом,
Поскольку она велика и обильна.
Чтоб перед ее таинственным ликом
Они прозвучали свободно и сильно.
Горсть
(1985-1987)
I. Беатриче
Откуда Беатриче? Да еще не под синим небом Италии, а на фоне хмурой Прибалтики? Оттуда же, откуда многие Дамы Блока — из знаковой системы культуры. Культура накапливает образы, понятия и опыт чувств. Все, кто соприкоснется с культурой, не могут не усваивать ее знаковых значений.
Для меня Беатриче — знак суровой, требовательной и неосуществленной любви.
Мой цикл сложился как ряд переживаний, связанных с категориями чувств.
Ссылка на накопленные значения составляет суть культурной традиции, вне которой не существует развитая поэзия. Она есть и в шестикрылом серафиме Пушкина, и в сапоге ломающего каноны Маяковского, где гвоздь кошмарней фантазии Гете.
Один критик, сторонник поэзии «простодушной», уже успел упрекнуть меня в книжности, наткнувшись в моем цикле на имена Беатриче, Лауры. Данте, Петрарки и Дон Кихота. Наверное, ученые педанты, со своей стороны, упрекнут меня в невежестве относительно реалий подлинных отношений Данте и Беатриче.
Выше я ответил тому и другим.
Беатриче
Говорят, Беатриче была горожанка,
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.
Он ее подобрал. И рассматривал долго.
И смотрел и держал на ладони.
И забрал навсегда. И запел от восторга
О своей некрасивой мадонне.
А она, несмотря на свою неученость,
Вдруг расслышала в кухонном гаме
Тайный зов. И узнала свою обреченность.
И надела набор с жемчугами.
И, свою обреченность почувствовав скромно,
Хорошела, худела, бледнела,
Обрела розоватую матовость, словно
Мертвый жемчуг близ теплого тела.
Он же издали сетовал на безответность
И не знал, озаренный веками,
Каково было ей, обреченной на вечность,
Спорить в лавочках с зеленщиками.
В шумном доме орали драчливые дети,
Слуги бегали, хлопали двери.
Но они были двое. Не нужен был третий
Этой женщине и Алигьери.
Автобусная остановка «Лаури»
У нас с тобой каникулы
В круглогодичной школе
Взаимных обучений.
Кругом луга и выгоны.
Дорога вьется в поле.
Автобус предвечерний.
А остановка «Лаури»
Вдруг может стать Лаурой.
На фоне ровной травки
Возможно в светлой ауре
Среди природы хмурой
Явление Петрарки.
Откуда здесь? В неведенье.
Но где-то за лугами,
Где не подозревают,
«Божественной комедии»
Зловещими кругами
Округа назревает.
А дальше — силы женственной
Два образа, что милы
Душе в своем различье.
Поэзии божественной
Две жертвы. Две могилы.
Лаура. Беатриче.
«Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!..»
Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!
Ведь каждый миг я изменяюсь сам.
А нынче мне приснилось почему-то,
Что мы живем по солнечным часам.
А солнца нет. В душе темно, как в штольне.
И циферблат луны туманом скрыт.
И лишь на вильяндистской колокольне
Двенадцатый удар. Звонарь не спит.
«Желанье и совесть — две чаши…»
Желанье и совесть — две чаши
Весов. Если нет равновесья,
Желанья бессовестны наши.
А совесть — сплошное увечье.
И в самоубийственном раже,
Как жуткий пожар чернолесья,
Дымится нутро человечье.
День
Увижу рассвет за венозным окном,
Пойму, что не надо тягаться со сном.
Теперь уже можно не спать, не дремать,
А лишь ожиданьем себя донимать.
А дождь не стихает и днем.
Сперва буду ждать вдохновенной строки.
Но рифмы трещат, как стропила.
Да! Боги мои обжигают горшки,
А я лишь леплю их уныло.
Потом ожидать начинаю письма.
И жду, чтобы дети восстали от сна.
И чтобы ты кофе сварила.
И чтобы ты заговорила.
Но оба мы ждать начинаем врага.
Ты соль уронила вблизи очага.
Ах, жаль, что солонку разбила!
Сначала его я хотел бы убить.
А после — его я хотел бы забыть.
А после — его я хотел бы любить.
Как мертвого любит могила.
А может быть, даже сильнее стократ.
Но вскоре уже наступает закат.
А дождь все шумит за венозным окном.
И можно утешиться только вином,
А может, ударом булата.
Все ждать, ожидать и опять ожидать,
И ждать, чтобы все повторилось опять.
Чтоб кончилось это когда-то.
Дон Кихот
Так за день устаю от битвы с ветряками
И от фантазии испанской,
Что к вечеру хочу в трактире с мужиками
Стать Санчо Пансой.
Смешной старик, худой, седоволосый,
Молчу. Кому нужна изысканная проза!
Молчу и слушаю. Но вдруг бледнею,
Когда заговорят про Дульцинею,
Про Дульцинею из Тобозо!
Что говорят о ней, о девке с сеновала!
Смешной гидальго, встань, ведь ночь не миновала,
Клюй до утра свое небесное зерно.
А утром вновь пойдешь войной на мнимых чудищ.
Но с Санчо Пансой воевать не будешь.
Да и ему с тобой сразиться не дано.
«Ты подарила мне вину…»
Ты подарила мне вину,
Как крепость старому вину.
Сперва меня давила в чане,
Как кахетинские крестьяне
Тугие грозди Алазани
Жмут, беспощадные к плодам.
Потом меня лишила плоти.
А кровь мою, что изопьете,
Я при застолье вам подам.
Страсть
В страстях, в которых нет таланта,
Заложено самоубийство
Или убийство. Страсти Данта
Равны ему. Растут ветвисто.
Страсть — вовсе не прообраз адюльтера.
В ней слепота соседствует с прозреньем,
С безмерностью — изысканная мера:
Слиянье бога со своим твореньем.
В ней вожделенья нет. И плотью в ней не пахнет.
Есть страсть духовная. Все остальное — ложь.
И криворотый образ леди Макбет,
Которая под фартук прячет нож.
«Вот в эту пору листопада…»
Вот в эту пору листопада,
Где ветра кислое вино,
Когда и лишних слез не надо —
В глазницах сада их полно,
Тебя умею пожалеть.
Понять умею. Но доныне
Никто не мог преодолеть
Твоей заботливой гордыни.
Ты и сама над ней не властна,
Как все не властны над судьбой.
А осень гибелью опасна.
И прямо в горло бьет прибой.
«Соври, что любишь! Если ложь…»