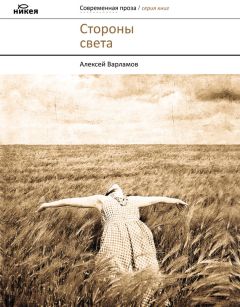Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
Сумасшедшее такси
(Из ненаписанных стихотворений)
Время
не течет равномерно,
ход его
то замедляется,
то убыстряется —
впрочем,
это только на малых отрезках.
В детстве
время движется медленно,
плавно,
почти незаметно —
может порой показаться,
будто не движется вовсе,
но постепенно,
с годами,
берет разгон,
все уверенней,
все быстрее,
набирает скорость,
все быстрее,
быстрее —
кажется, все,
быстрее уже невозможно —
а нет,
еще и еще —
продолжается ускоренье…
Все чаще
себя ощущаю
несущимся
в сумасшедшем такси
с обезумевшим счетчиком,
отщелкивающим
мои годы,
словно секунды, —
эй,
хоть немного потише! —
да куда там,
только мелькают
эти звонко стучащие цифры
на обезумевшем счетчике
в сумасшедшем такси.
Послание юным друзьям
Я, побывавший там, где вы не бывали,
я, повидавший то, чего вы не видали,
я, уже там стоявший одной ногою,
я говорю вам – жизнь все равно прекрасна.
Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна —
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.
Вот оглянусь назад – далека дорога.
Вот погляжу вперед – впереди немного.
Что же там позади? Города и страны.
Женщины были – Жанны, Марии, Анны.
Дружба была и верность. Вражда и злоба.
Комья земли стучали о крышку гроба.
Старец Харон над темною той рекою
ласково так помахивал мне рукою —
дескать, иди сюда, ничего не бойся,
вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем…
Как я цеплялся жадно за каждый кустик!
Как я ногтями в землю впивался эту!
Нет, повторял в беспамятстве, не поеду!
Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться!
Ниточка жизни. Шарик, непрочно свитый.
Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна.
Штопаный-перештопаный, мятый, битый,
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.
Да, говорю, прекрасна и бесподобна,
как там ни своевольна и ни строптива —
ибо к тому же знаю весьма подробно,
что собой представляет альтернатива…
Робкая речь ручья. Перезвон капели.
Мартовской брагой дышат речные броды.
Лопнула почка. Птицы в лесу запели.
Вечный и мудрый круговорот природы.
Небо багрово-красно перед восходом.
Лес опустел. Морозно вокруг и ясно.
Здравствуй, мой друг воробушек,
с Новым годом!
Холодно, братец, а все равно – прекрасно
«В том городе, где спят давно…»
В том городе, где спят давно,
где все вокруг темным-темно —
одно,
как павшая звезда,
в ночи горящее окно —
да, там, за густо разлитой
многоэтажной темнотой,
как бы на целый мир одно,
в ночи горящее окно —
как свет звезды далекой,
свет лампы одинокой.
Кромешный мрак и свет живой —
свет лампы или свет свечи —
поэзия, вот образ твой —
окно, горящее в ночи,
твой псевдоним и твой пароль,
твоя немеркнущая роль,
твое предназначенье,
полночное свеченье.
Когда молчит благая весть
и все во мрак погружено,
хвала Всевышнему, что есть
в ночи горящее окно,
что там, за прочно обжитой
невозмутимой темнотой —
как свет неведомой звезды —
на этой улице, на той —
как свет звезды далекой,
свет лампы одинокой.
Как за последнею чертой —
свет лампы или свет свечи —
на этой улице, на той —
окно, горящее в ночи, —
там сквозь завалы зим и лет
моих друзей не меркнет свет,
и в час, когда все спят давно,
когда вокруг темным-темно,
горит Тарковского окно,
горит Самойлова окно —
там и мое окошко
от них неподалеку
еще живет покуда
и светит понемногу,
еще живет покуда,
горит, и слава Богу —
горит себе, не гаснет,
старается как может.
«За то, что жил да был…»
За то, что жил да был,
за то, что ел да пил,
за все внося, как все,
согласно общей смете,
я разве не платил
за пребыванье здесь,
за то, что я гостил
у вас на белом свете?
За то, что был сюда
поставлен на постой
случайностью простой
и вовсе не по блату,
я разве не вносил
со всеми наравне
предписанную мне
пожизненную плату?
Спасибо всем за все,
спасибо вам и вам,
радевшим обо мне
и мной повелевавшим,
хотя при всем при том
я думаю, что я
не злоупотребил
гостеприимством вашим.
Осталось все про все
почти что ничего.
Прощальный свет звезды,
немыслимо далекой.
Почти что ничего,
всего-то пустяки —
немного помолчать,
присев перед дорогой.
Я вас не задержу.
Да-да, я ухожу.
Спасибо всем за все.
Счастливо оставаться.
Хотя, признаться, я
и не предполагал,
что с вами будет мне
так трудно расставаться.
«Белые, как снег, стихи…»
Белые, как снег, стихи.
С каждым годом все белее.
В белой утренней аллее
чьи-то легкие следы.
Сорок градусов мороз.
Скоро будет и поболе.
В белом поле, в чистом поле
чьи-то беглые следы.
Кто здесь шел и кто прошел,
что за чудо-скороходы?
– Это дни твои и годы,
это жизнь твоя прошла.
– То есть как же это так?
Только шаг ступил с порога,
а уже, гляди, дорога
завершается почти!
– Ну какой же это шаг,
не гневи напрасно Бога —
вон какая, брат, дорога
за плечами у тебя!
И шагать тебе по ней
в путь обратный не придется —
так иди, пока идется,
будь доволен, что идешь!
– Я доволен, что иду,
я на жизнь не обижаюсь —
просто жаль, что приближаюсь
к той невидимой черте.
Да к тому же, как на грех,
под конец моей дороги
плоховаты стали ноги —
слишком медленно иду.
– А куда ж тебе спешить?
Ты и так свою дорогу
завершить успеешь к сроку,
хоть спеши, хоть не спеши…
Сорок градусов мороз.
Скоро будет и поболе.
В белом поле, в чистом поле
одиноко одному.
Где теперь мои друзья?
Те побиты в лютой сече,
тех уж нет, а те далече,
вот и топаю один.
Я ступаю не спеша
осторожными шагами,
будто мины под ногами,
и одна из них моя.
На зыбучий этот снег
осторожно ставлю ногу,
и помалу, понемногу
след теряется вдали.
В белый морок, в никуда
простираю молча руки —
до свиданья, мои други,
до свиданья,
до свида…
Из разных десятилетий
Из пятидесятых
«Всё гаечки да винтики…»
Всё гаечки да винтики, а Бог – у пульта.
Это называется эпоха культа.
Так ли называется, не так ли называется —
это в моем сердце болью отзывается.
А кругом у мальчиков запал да пыл.
Они ко мне с вопросом – а ты где был?
А где я был, мальчики? И там был, и тут.
…Винтики, винтики по полю идут.
Сталин о нас думает. Нам ни шагу вспять.
Дважды два четыре, пятью пять двадцать пять.
А над бедным винтиком ворон парит.
А под белым бинтиком рана горит.
Васеньки? Витеньки? – узнать не могу.
Винтики, винтики лежат на снегу…
Среди того дыма и того огня
я и не заметил, как убили меня.
Не шлепнули в застенке, не зарыли во рв
вот я и думал, будто живу…
Что ж это такое, как же это вдруг!
Ах, товарищ Сталин, учитель и друг!
Как же это вышло со мной, со страной,
учитель мой, мучитель, отец мой родной!
…Мартовский морозец, поздняя весна.
Трудно просыпаюсь от долгого сна.
Щурюсь непривычно на солнце, на свет.
И сам еще не знаю – я жив или нет.
Вопросы
Я рос в те незабвенные года,
овеянные пафосом начала,
где музыка ударного труда
так чисто и возвышенно звучала.
Хотя уже тогда в моей стране
внедрялся стиль наветов и допросов,
я оставался как бы в стороне
от этих сокрушительных вопросов.
Тогда, на рубеже сороковых,
их горечи покуда не отведав,
вопросов не ценя как таковых,
ценили мы незыблемость ответов.
В раденье о голодных и рабах
вошла в меня уверенность прямая,
что путал Кант, и путал Фейербах,
и путал Гегель, недопонимая.
Еще не прочитав их ни строки,
я твердо знал – ну как же, в самом деле,
напутали – ах, эти старики, —
не знали, не смогли, не разглядели!
Сомнений дух над нами не витал,
и в двадцать лет, доверчивый не в меру,
уже скопил я круглый капитал
готовых истин, принятых на веру.
Старательно заученные мной,
записанные твердо на скрижали,
они меня, как каменной стеной,
удобно и надежно окружали…
Но время шло, скрипя на тормозах,
тащилось по невидимой спирали,
и старились ответы на глазах
и в возрасте преклонном умирали.
И вдруг, со всех сторон меня тесня,
бушуя, как мятежные матросы,
пошли неумолимо на меня
исторгнутые временем вопросы.
Засучивая с ходу рукава,
швыряют кулаки в меня тугие:
– А что? А как? А сущность какова?
А почему? А доводы какие?
На улице, в трамвае и в метро
иду сквозь эту шумную ораву
орущую, прищурившись хитро:
– А почему? А по какому праву?
Да как же так! Ты был не так уж мал!
Ты шел в огонь, гранатами обвязан!
И нам плевать, что ты не понимал!
Ты должен был понять! Ты был обязан!..
И я молчу, как в рот набрал воды.
И я молчу, как будто воем вою.
И ветер их тяжелой правоты
опасно шелестит над головою.
Из шестидесятых