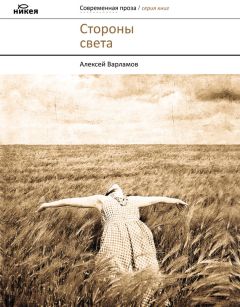Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
«Чешский поэт Владимир Голан…»
Чешский поэт Владимир Голан
прожил достойно на этом свете.
– Дети, – любил говорить он, – дети.
Дети, и только они, по сути. —
Дети, – любил говорить он, глядя
в сосредоточенные их лица, —
одни только дети
вечны, как песня
жаворонка
над битвой
у Аустерлица.
Но дети —
понятье вневозрастное.
Граф,
пророк и провидец,
отлученный от церкви апостол,
седобородый высокий старик,
похожий на господа Бога,
как мальчишка,
убегает из дома —
крадучись,
тихо-тихо,
чтоб не скрипнула половица, —
как ребенок,
в наивной уверенности,
что никто не узнает,
никто не услышит,
никто не увидит —
но едва лишь он из дому выйдет,
застучат телеграфные аппараты,
загудят телефонные провода —
ну куда он,
куда?!
Малый ребенок.
Большой ребенок.
Старый ребенок.
Это я…
(Из ненаписанных стихотворений)
Есть любимые книги,
есть любимые названья,
существующие
как бы отдельно,
независимо
друг от друга.
В наше время
демонстраций,
манифестаций,
всевозможных шествий
вижу себя
в одной из колонн
с транспарантом,
на котором начертано
самое мое любимое,
заповедное,
сокровенное,
от которого
дух у меня захватывает —
нет, не названье,
нечто гораздо большее,
чем названье
(жизни? судьбы? пути?),
возглас отчаянья,
крик о помощи,
мольба о помилованье —
это я,
это я, Господи,
Господи,
это я!
«Не изменить цветам, что здесь цветут…»
Не изменить цветам, что здесь цветут,
и ревновать к попутным поездам.
Но что за мука – оставаться тут,
когда ты должен находиться там!
Ну что тебе сиянье тех планет!
Зачем тебя опять влечет туда!
Но что за мука – отвернуться – нет,
когда ты должен – задохнуться – да!
Но двух страстей опасна эта смесь,
и эта спесь тебе не по летам.
Но что за мука – находиться здесь,
когда ты должен там, и только там!
Но те цветы – на них не клином свет.
А поезда полночные идут.
Но разрываться между да и нет…
Но оставаться между там и тут…
Но поезда, уходят поезда.
Но ты еще заплатишь по счетам
за все свои несказанные да,
за все свои непрожитые там!
Эволюция
Был я садом, где мощные кроны пестреют
налитыми солнцем
тугими плодами.
Стал я складом, где сложены все мои годы и дни,
как дрова,
как сухие поленья.
Стал я адом, где сам я себе и Вергилий, и Дант,
и тот грешник последний,
снедаемый адским огнем,
запоздало лия покаянные слезы…
Такова в самых общих чертах эволюция плоти моей
и души,
ее главные фазы и метаморфозы.
От деревьев и кущ Гефсиманского сада,
от Райского сада
до черных котлов Вельзевулова ада
протянулась земная дорога моя, Одиссея моя
и моя Илиада.
Ты прости, Пенелопа, мои корабли сожжены,
мне едва ли добраться уже
до родимой Итаки.
На развалинах Трои лежу, недвижим,
в ожиданье последней
ахейской атаки.
И покуда последний рожок надо мной не пропел,
и покуда последняя
длится осада —
все мне чудится, будто бы вновь
шелестит надо мною листва
Гефсиманского сада,
Эдемского сада,
того незабвенного сада.
Новогоднее послание Арсению Александровичу Тарковскому
Я кончил книгу и поставил точку…
… И вот я завершил свой некий труд,
которым завершился некий круг, —
я кончил книгу и поставил точку —
и тут я вдруг
(хоть вовсе и не вдруг)
как раз и вспомнил эту Вашу строчку,
Арсений Александрович, мой друг
(эпитет старший не влезает в строчку,
не то бы я сказал, конечно, старший —
Вы знаете, как мне не по душе
то нынешнее модное пижонство,
то панибратство, то амикошонство,
то легкое уменье восклицать —
Марина-Анна, о, Марина-Анна —
не чувствуя, как между М и А
рокочет Р, и там зияет рана,
горчайший знак бесчисленных утрат),
Арсений Александрович, мой брат,
мой старший брат по плоти и по крови
свободного российского стиха
(да и по той, по красной, что впиталась
навечно в подмосковные снега,
земную пробуравив оболочку),
итак, зачем, Вы спросите, к чему
сейчас я вспомнил эту Вашу строчку?
А лишь затем —
сказать, что Вас люблю
и что покуда рано ставить точку,
что знаки препинанья вообще —
не наше дело, их расставит время —
знак восклицанья,
или знак вопроса,
кавычки,
точку
или многоточье —
но это все когда-нибудь потом,
и пусть кто хочет думает о том,
а мы еще найдем о чем подумать…
Позвольте же поднять бокал за Вас,
за Ваше здравье
и за Ваше имя,
где слово Ars – искусство – как в шараде,
со словом сень соседствует недаром,
напоминая отзвук сотрясений,
стократно повторившихся в душе,
за Ваши рифмы
и за Ваш рифмовник,
за Ваш письмовник
и гербовник чести,
за Вас,
родной словесности фонарщик,
святых теней бессменный атташе,
за Ваши арфы, флейты и фаготы,
за этот год
и за другие годы,
в которых жить и жить Вам, вопреки
хитросплетеньям критиков лукавых,
чьи называть не станем имена.
Пускай себе.
Не наше это дело.
«Музыка моя, слова…»
Музыка моя, слова,
их склоненье, их спряженье,
их внезапное сближенье,
тайный код, обнаруженье
их единства и родства —
музыка моя, слова,
осень, ясень, синь, синица,
сень ли, синь ли, сон ли снится,
сон ли синью осенится,
сень ли, синь ли, синева —
музыка моя, слова,
то ли поле, те ли ели,
то ли лебеди летели,
то ли выпали метели,
кровля, кров ли, покрова —
музыка моя, слова,
ах, как музыка играет,
только сердце замирает
и кружится голова —
синь, синица, синева
«Кто-то верно заметил…»
Кто-то верно заметил,
что после Освенцима
невозможно писать стихи.
Ну а мы —
после Потьмы и тьмы Колымы,
всех этапов и всех пересылок,
лубянок, бутырок
(выстрел в затылок!
выстрел в затылок!
выстрел в затылок!) —
как же мы пишем,
будто не слышим,
словно бы связаны
неким всеобщим обетом —
не помнить об этом.
Я смотрю, как опять у меня под окном
раскрываются первые листья.
Я хочу написать, как опять совершается
вечное чудо творенья.
И рождается звук, и сама по себе
возникает мелодия стихотворенья.
Но внезапно становится так неуютно и зябко
в привычном расхожем удобном знакомом размере,
и так явственно слышится —
приговорен к высшей мере! —
так что рушится к черту размер
и такая хорошая рифма опять пропадает,
и зуб на зуб не попадает,
я смолкаю, немею,
не хочу! – я шепчу —
не хочу, не могу, не умею —
не умею писать о расстреле!
Я хочу написать о раскрывшихся листьях в апреле.
Что же делать – ну да, ну конечно,
пока мы живем – мы живем…
Но опять —
истязали! пытали! зарыли живьем! —
так и будет ломать мои строки,
ломать и корежить меня
до последнего дня
эта смертная мука моя
и моя западня —
до последнего дня,
до последнего дня!..
Ну а листья, им что, они смотрят вокруг,
широко раскрывая глаза, —
как свободно и весело майская дышит гроза,
и звенит освежающий дождик, такой молодой,
над Отечеством нашим,
над нашей печалью,
над нашей бедой.
«Это общество – словно рояль…»
Это общество – словно рояль, безнадежно
расстроенный,
весь изломанный, весь искорябанный, весь
искореженный —
вот уж всласть потрудились над ним исполнители
рьяные,
виртуозы плечистые, ах, барабанщики бравые.
Как в беспамятстве, все эти струны стальные и медные,
лишь вчера из себя исторгавшие марши победные, —
та едва дребезжит, та, обвиснув, бессильно качается,
есть отдельные звуки, а музыка не получается.
И все так же плывет над пространством огромной страны
затянувшийся звук оборвавшейся некой струны.
Сумасшедшее такси
(Из ненаписанных стихотворений)
Время
не течет равномерно,
ход его
то замедляется,
то убыстряется —
впрочем,
это только на малых отрезках.
В детстве
время движется медленно,
плавно,
почти незаметно —
может порой показаться,
будто не движется вовсе,
но постепенно,
с годами,
берет разгон,
все уверенней,
все быстрее,
набирает скорость,
все быстрее,
быстрее —
кажется, все,
быстрее уже невозможно —
а нет,
еще и еще —
продолжается ускоренье…
Все чаще
себя ощущаю
несущимся
в сумасшедшем такси
с обезумевшим счетчиком,
отщелкивающим
мои годы,
словно секунды, —
эй,
хоть немного потише! —
да куда там,
только мелькают
эти звонко стучащие цифры
на обезумевшем счетчике
в сумасшедшем такси.
Послание юным друзьям