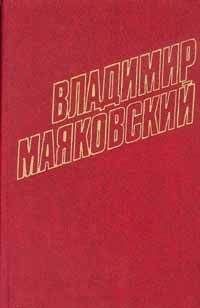Владимир Маяковский - Стихотворения (1927)
ФАБРИКАНТЫ ОПТИМИСТОВ
(ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ)Не то грипп,
не то инфлуэнца.
Температура
ниже рыб.
Ноги тянет.
Руки ленятся.
Лежу.
Единственное видеть мог:
напротив — окошко
в складке холстика —
«Фотография Теремок,
Т. Мальков и М. Толстиков».
Весь день
над дверью
звоночный звяк,
а у окошка
толпа зевак.
Где ты, осанка?!
Нарядность, где ты?!
Кто в шинели,
а кто в салопе.
А на витрине
одни Гамлеты,
одни герои драм и опер.
Приходит дама,
пантера истая —
такая она от угрей
пятнистая.
На снимке
нету ж —
слизала ретушь.
И кажется
этой плоской фанере,
что она Венера по крайней мере.
И рисуется ее глазам уж,
что она
за Зощенку
выходит замуж.
Гроза окрестностей,
малец-шалопай
сидит на карточке
паем-пай:
такие, мол, не рассыпаны,
как поганки по́ лесу,—
растем
марксизму и отечеству на пользу.
Вот
по пояс
усатый кто-то.
Красив —
не пройдешь мимо!
На левых грудях —
ордена Доброфлота,
на правых —
Доброхима.
На стуле,
будто на коне кирасир,
не то бухгалтер,
не то кассир.
В гарантию
от всех клевет и огорчений
коленки сложил,
и на коленки-с
поставлены
полные собрания сочинений:
Бебель,
Маркс
и Энгельс.
Дескать, сидим —
трудящ и старателен,—
ничего не крали
и ничего не растратили.
Если ты загрустил,
не ходи далеко —
снимись по пояс
и карточку выставь.
Семейному уважение,
холостому альков.
Салют вам,
Толстиков и Мальков —
фабриканты оптимистов.
«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?»
Слух идет
бессмысленен и гадок,
трется в уши
и сердце ёжит.
Говорят,
что воли упадок
у нашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший орден,
ныне
про вкусноты забывший ротишко
под витриной
кривит в унынье.
Что голодным вам
на зависть
окна лавок в бутылочном тыне,
и едят нэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыни.
Слух идет
о грозном сраме,
что лишь радость
развоскресе́нена,
комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да ноют под стих Есенина.
И доносится до нас
сквозь губы́ искривленную прорезь:
«Революция не удалась…
За что боролись?..»
И свои 18 лет
под наган подставят —
и нет,
или горло
впетлят в ко́ски.
И горюю я,
как поэт,
и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда,—
понял я,
что великая честь
за слова свои
голодать.
Из-под локона,
кепкой зави́того,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.
Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу —
с прежним плаваньем
трудно расстаться им.
То царев горшок берегут,
то
обломанный шкаф с инкрустациями.
Вы — владыки
их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.
Это —
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.
Но, рядясь
в любезность наносную,
мы —
взамен забытой Чеки —
кормим дыней их ананасною,
ихних жен
одеваем в чулки.
И они
за все за это,
что чулки,
что плачено дорого,
строят нам
дома и клозеты
и бойцов
обучают торгу.
Что ж,
без этого и нельзя!
Сменим их,
гранит догрызя.
Или
наша воля обломалась
о сегодняшнюю
деловую малость?
Нас
дело
должно
пронизать насквозь,
скуленье на мелочность
высмей.
Сейчас
коммуне
ценен гвоздь,
как тезисы о коммунизме.
Над пивом
нашим юношам ли
склонять
свои мысли ракитовые?
Нам
пить
в грядущем
все соки земли,
как чашу,
мир запрокидывая.
ВМЕСТО ОДЫ
Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.
Скольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!
Моя знакомая —
женщина как женщина,
оглохшая
от примусов пыхтения
и ухания,
баба советская,
в загсе ве́нчанная,
самая передовая
на общей кухне.
Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парнем среднего ростца;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных письмоносцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
— Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуд —
и прямо в милицию,
прямо в суд…—
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звонок
по кухне
рассыпался, дребезжа.
Открыла.
Расцвели миллионы почек,
высохла
по-весеннему
слезная лужа…
— Его почерк!
письмо от мужа.—
Письмо раскаленное —
не пишет,
а пышет.
«Вы моя душка,
и ангел
вы.
Простите великодушно!
Я буду тише
воды
и ниже травы».
Рассиялся глаз,
оплывший набок.
Слово ласковое —
мастер
дивных див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за новой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
охаживаемой Вере:
— Я за положительность
и против инцидентов,
которые
вредят
служебной карьере.—
Неделя покоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.
Неделя —
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке по́были…
Вот оно —
семейное
«перпетуум
мобиле».
И вновь
разговоры,
и суд, и треск
на много часов
и недель,
и нет решимости
пересмотреть
семейственную канитель.
Я
напыщенным словам
всегдашний враг,
и, не растекаясь одами
к 8 марта,
я хочу,
чтоб кончилась
такая помесь драк,
пьянства,
лжи,
романтики
и мата.
ФЕВРАЛЬ