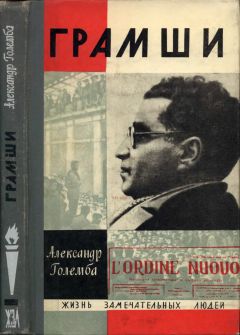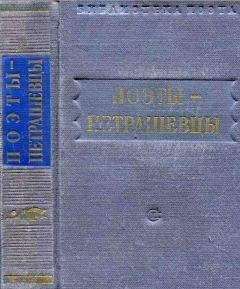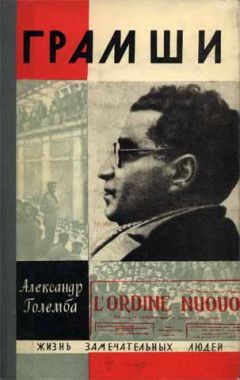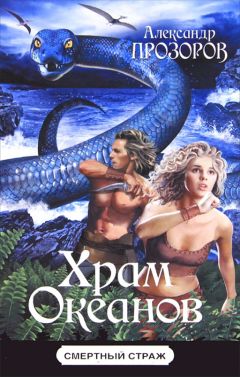Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
«Вдоль заплеванных аллей и осенних желтых змиев…»
Вдоль заплеванных аллей и осенних желтых змиев
губернатор Фундуклей прибывает в город Киев,
прибывает в город Киев губернатор Фундуклей
вдоль осенних желтых змиев и заплеванных аллей.
У шикарного ландо лакированная дверца,
губернатор от и до валерьянку пьет от сердца,
валерьянку пьет от сердца губернатор от и до,
лакированная дверца у шикарного ландо.
Подпирая крепкой шпалой синий рельсовый прокат,
лист шуршит хрустливо-палый, хлопотливо-языкат,
шепчет лист хрустливо-палый, хлопотливо-языкат,
подпирая толстой шпалой смерть и гибель напрокат.
Вихри все со смертью схожи. Деловит и густобров,
настежь бьет из аванложи в грудь Столыпина Богров.
«Будут внукам завещаны наши дома…»
Будут внукам завещаны наши дома
вместе с бюстами наших ученых,
и карнизов кирпичных слепая кайма,
и автобусов наших тоска-кутерьма,
и простор санузлов совмещенных.
Будут правнукам вверены те города,
где Утесов нес музыку в массы,
где так вяло порою сочилась вода
и, как лес, зеленели сберкассы.
Что им скажет вот этот (ученый монах?),
сей первопечатник московский?
И еще в нарочито широких штанах
беспардонный поэт Маяковский?
Что им скажет Казанки сушайший песок
вкупе с Курского Черною Грязью,
и поэзия мемориальных досок,
присягающая безобразью
тех писателей или ученых коллег,
тех конструкторов разных воздушных телег,
геликоптеров и вертолетов,
что в Эдем вознеслись, отработав?
Не довольно ли этой пустой болтовни?
Утомленье. Томленье. Опала.
Мне не хочется верить, что меркнут огни,
если сила себя исчерпала.
Вот XVII век и его терема.
Поколения меркнущий разум.
Будут внукам завещаны наши дома
вместе с форточкой и унитазом.
Будут правнукам вверены наши дома.
Словом – ныне и присно, вовеки
будет осень – не осень, зима – не зима:
громоздить свои льдистые ЖЭКи!
Припадет этот Мир Без Особых Примет
и к твоим деликатным ланитам, –
вечность скуки, которой названия нет,
до скончанья и ад инфинитум!
«Мне часто снится книжный магазин…»
Мне часто снится книжный магазин,
тугих обложек пестрые обновы,
и на стеллажах – Стерн и Карамзин,
и даже мемуары Казановы –
…На улице какой-то боковой,
вдали от шума, похоти и страсти,
в какой-то ну совсем не деловой,
полузабытой гражданами части.
Мне кажется, я в нем уже бывал,
а если нет, то как могло случиться,
что я запомнил ласковый овал
лица светловолосой продавщицы?
Витрины там как тусклая слюда,
а книги хороши невыразимо,
и я хочу туда, но вот беда! –
на свете нет такого магазина.
Не целовал я этих серых глаз,
и к туфелькам не ластился осотом;
я полз, как одичалый верхолаз,
по разным геральдическим высотам.
Качались клювы в темном серебре,
и облако над башнями качалось,
и расточалась ночь – и на заре
привычная история кончалась:
на миг – приостанавливался миг,
и съеживался сребротканный полог,
и тысячи – уже ненужных – книг
летели в печку со скрипучих полок.
ВРЕМЕНА
Вновь времена, времена, времена,
снова огниво, кресало и трут,
снова позвякивают стремена,
ржут иноходцы и трубы ревут,
снова огниво, кресало и трут,
снова не верить словам и слезам,
снова затеряны двери в Сезам.
Черный подсолнух в белых зубах,
чересседельник по том пропах,
снова вздуваются жилы на лбу,
снова мне в губы вложила трубу,
переплетенная жилами лба,
вера, надежда, судьба.
Ежели прах развеют ветра –
это еще не беда.
Ежели враг возжелает добра –
это еще не беда,
а са ира, са ира, са ира,
никто никому не желает добра,
никто, никому, никогда.
Никто никому, никто никогда,
хотя б на секунду одну;
но если за радостью встала страда,
за счастьем узрели вину:
никто никому, никто никогда,
хотя б на секунду одну…
Только бы зубы до боли сжать,
только бы вместе с тобой дышать,
праздные ноздри раздув дотла,
только бы ты жила.
Вот я стою – ну, не я, любой,
весь как звенящая нить,
вот я стою, чтобы собой
гибель твою отстранить.
Нет, не собой, не одним собой:
сердцем своим и своей судьбой,
прошлым своим и своей мольбой,
будничных дней гурьбой.
Фосфором выветрившихся костей,
счастьем своих нерожденных детей,
светом их нераскрывшихся глаз,
верностью без прикрас.
Никто никому не желает добра,
но это еще не беда,
а са ира, са ира, са ира,
смелость берет города.
Печей кирпичи и святой бурелом,
обугленный бурелом:
сидят дипломаты за круглым столом,
за очень круглым столом.
– О мистер Многоуважаемый Шкаф
и достопочтенная миссис,
о люди в жакетках и пиджаках,
безукоризненных пиджаках,
взирающие, окрысясь,
на то,
чего не вернуть с лихвой,
на то, что невозвратимо,
затем что колки иголки хвой
и море невозмутимо.
Невозмутимо его чело
и гладь его солона,
и если станет тебе тяжело,
и если замрут стремена,
приди – и пригоршней зачерпни
горчайшую горечь вод,
а там вдали – бортовые огни,
седой, как лунь, теплоход.
………………………………..
Вновь времена, времена, времена,
слезы большой беды,
вновь стремена, стремена, стремена,
съежившиеся сады,
всадники в бурках, вороний грай
неутоленных стай.
Рыжее пламя и смерть без вины,
смерть за чужие грехи,
широкогрудые скакуны,
дым из прорех стрехи…
Никто никому, никто никому,
никто никому ни глотка,
и я никогда, никогда не пойму,
что доля моя легка,
что я живу на зеленой земле,
просторной и несуровой,
что я живу на зеленой земле,
а вовсе не на багровой.
Мы вывернем наши души,
как ватники, — наизнанку,
мы слезы твои осушим,
над озером спозаранку,
и будут березы и ветлы
в спокойные воды глядеться,
и будет совсем искрометным
совсем позабытое детство.
Совсем позабытое детство,
когда не тревожат тревоги
и можно, прищурясь, вглядеться
в подкову на пыльной дороге, –
и, внемля словам наговора,
рокочущим снова и снова,
хотя не вполне и не скоро,
а всё ж разогнется подкова.
Бредут по дороге гусыни,
топорщатся кроткие крылья,
подкова в окалине синей
припудрена замшевой пылью.
И солнца лукавые блики
лежат на плетне и заборе,
лежат на фасетчатом лике
подсолнуха в желтом уборе.
Потом зажигаются звезды,
неяркие, мирные звезды,
сначала одна, а за нею
другая и третья звезда.
И вечер нисходит на землю,
простой, как молитва ребенка,
как самая первая песня
малиновки или дрозда.
ТРАВИАТА, ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ
Шляпа мята-перемята,
и заплата на виду.
Травиата, Травиата,
престарелый какаду.
И, прокашлявшись сначала,
черномазый обормот
кареглазых харьковчанок
песней за душу берет.
Надрывается шарманщик –
иностранный человек,
механический органчик,
потому двадцатый век!
Луч упал с небесной тверди
в водосточную трубу,
музыкант Джузеппе Верди
поворочался в гробу.
Как хотите губы красьте –
хоть помады целый пуд:
если не привалит счастья,
так и замуж не возьмут!
Сколько слов смешных и добрых,
подходящих в самый раз,
проницательный стеклограф
отпечатал про запас.
Разверни цыдульку, Настя,
или Фрося – всё равно!
Вот оно — пустое счастье,
что ж ты плачешь – вот оно!
А потом на двор угрюмый,
обагренный сентябрем,
забредут шурум-бурумы,
завопят: «Старье берем!»
– Эй, паныч, скорее думай —
нет ли брюк иль пиджаку, —
захрипят шурум-бурумы,
задирая вверх башку.
Их прогонит дворник Блыщик:
– Здесь не велено чужим! –
А потом придет точильщик
и начнет точить ножи.
Парень видный, парень ражий –
как обложит, не отбрить,
точит ножницы – и даже
ложку может наточить!
Приманив ребячьи стайки
после множества иных,
заиграют попрошайки
на валторнах жестяных.
Из окошек, из гляделок,
из уставленных в упор
медяки в обертках
белых полетят на грязный двор.
Где ты, город мой просторный,
сердобольное житье,
дребезжащие валторны
и татарское вытье?
Я вас выдумал когда-то,
я вас больше не найду,
Травиата, Травиата,
престарелый какаду!
«Приснился нам город у самой воды…»