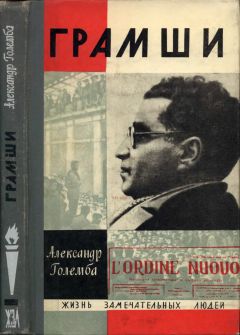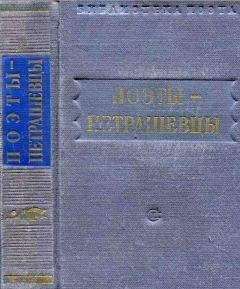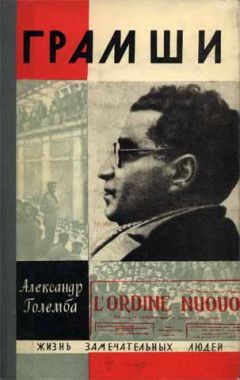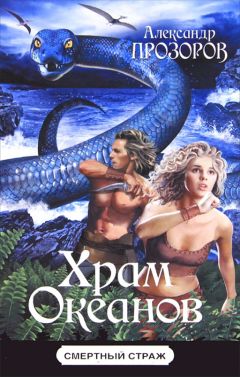Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
КАТОК «ПЕЧАТНИК»
Памяти Франческо КаттоНа Украине Слободской
жил равнодушный итальянец,
он придавал граниту глянец
весьма умелою рукой,
сулил покойникам покой,
женил чахоточный румянец, –
седой ваятель-итальянец
на Украине Слободской.
Надгробных памятников мастер
почил и помер в свой черед,
теперь у смерти он во власти,
зато Искусство не умрет.
Торчат в расцвете неудобья,
хранящие холодный пыл,
многопудовые надгробья
и монументы без могил.
Так помер равнодушья латник,
ваятель мраморных девчат.
У самых врат катка «Печатник»
его изделия торчат.
«В этом Харькове, старом как мир…»
В этом Харькове, старом как мир,
в этом городе, в этом губернском,
в этом ветре степном, в этом резком,
были мы молодыми людьми.
Были мы молодыми людьми,
были мы гимназистами в блузах,
этот мир был так скромен и узок.
Ах, в своих самых юных конфузах,
в наших первых ребячливых музах
были мальчиками, черт возьми! —
были мы молодыми людьми!
Были барышнями, черт возьми!
Гимназистками в фартушках были!
Три реки в керосине и в иле
никуда не текли, черт возьми!
Никуда не текли, черт возьми!
Лопань, Харьков и Нетечь, они
триедины в одном недвижимом.
Было время подернуто дымом,
было время подкрашено гримом, —
вспоминая о самом любимом,
о блаженстве неповторимом,
о богатстве, ни с чем не сравнимом,
были мы молодыми людьми!
Было время – путем, непутем,
были дни в обывательском тесте,
и еще не пылали поместья,
вихрь не плакал голодным дитем, –
но из этого плача и ила,
из всего, что в судьбе нашей было,
из всего, что душа не забыла,
кровь всплеснулась, и сердце изныло,
и послышалось имя: Артем!
«Когда-то были детские обиды…»
Когда-то были детские обиды,
седой стакан с холодным молоком,
и неумытые кариатиды
поддерживали выпуклый балкон.
Когда-то были райские отрады.
Они мертвы. Их к жизни не воззвать.
Гремели первомайские парады,
и тягачи корежили асфальт.
И фонари бренчали, как монисто.
И метеоры падали в траву.
И пыльный город назывался Мисто,
а я его никак не назову.
И пыльный город в говоре нерусском,
полынный дух украинской земли,
а там, далеко, за Бурсацким спуском
стыдливые акации цвели.
Прошла гроза – и на листочках мокрых
мерцает отсвет Божьего лица.
А я ребенок, по-славянски – отрок,
а в здешнем просторечии — пацан.
Полынный дух, тревожный и прогорклый.
Невнятные ребячьи времена.
Ступеньки Университетской горки
и бронзовый сюртук Карамзина.
И жирный рокот авиамотора.
И вскинь глаза — и только пустота:
мышиный цвет ампирного собора
да маковка, лишенная креста.
И облака. И ничего не надо.
И мне уже никто не возвратит
ни этой неосознанной отрады,
ни этих гипсовых кариатид.
«ИЛЛЮСТРАСЬОН», 1896
В очень старом французском журнале
иллюстрации. Блеск и хвала!
В очень старом французском журнале –
доконали! была не была! –
В очень старом французском журнале
золотая печаль расцвела.
Машут челками чудо-лошадки,
и рессорные катят ландо, –
то эпохи последние схватки,
что идет, как «Титаник», на дно.
Это трудное бешенство плоти,
наслажденья того бытия,
чье буржуйство уже на излете,
чья уже иссякает струя.
Может быть, чьи-то горны в казарме
протрубили уже на заре
о Вердене, о битве на Марне,
о седых облаках в серебре?
«Марсельеза» – серьезная штука.
Бутсы топчут дорожную пыль.
Дети Франции, нуте-ка, ну-ка,
как задорит вас Руже де Лиль!
СЛОВОЛИТНЯ РЕВИЛЬОНА
Где была во время оно
Словолитня Ревильона,
там уж нет ее теперь:
там гудят иные липы,
там иной фрамуги скрипы,
там иные линотипы
и не так обита дверь.
Но в строки свинцовой оголь
был одет когда-то Гоголь,
Достоевский, Салтыков.
И остались буквы эти
в керосиновом просвете,
в голубом фонарном свете
до скончания веков!
Нет ни скорби, ни пропажи;
вновь сочны политипажи,
а бумага чуть желта, —
вновь плывешь в тоску-неволю
сквозь шестнадцатую долю
иль тридцать вторую долю
благородного листа!
Есть бессмертие в журналах,
в копошеньи этих малых
жирных буковок и литер,
в мельтешеньи этих строк.
Вот и шепчешь ты влюбленно:
«Словолитня Ревильона!»
Было то во время оно,
но пошло, однако, впрок.
Словолитня и аптека
девятнадцатого века, –
все терзанья человека
в дебрях этих трудных лет!
Если прошлое тревожит,
кто сказать об этом сможет?
Разве всё в поэму вложит
некий истинный поэт?!
Фантастические миги,
где романтики-расстриги
боль преображали в книги
с бескорыстностью смешной;
буквы, шпации, пробелы,
«Приключенья Арабеллы», –
страсти легкие пределы
дышат прежней новизной!
Было то во время оно:
Словолитня Ревильона,
было то во время оно,
не сегодня, не сейчас…
Отчего же строки эти
в потайном вечернем свете
вновь у сердца на примете,
сызнова тревожат нас?
Было то во время оно:
Словолитня Ревильона,
Словолитня Ревильона,
голубой светильный газ!
«Господа подъезжали к вокзалу…»
Господа подъезжали к вокзалу
и ругали простых проводниц,
и корявое зданье вонзало
в небеса позолоченный шпиц.
А за ним громоздились пассажи
и присутственных зданий ранжир
и казалось, что в клетку посажен
прикативший сюда пассажир.
Золоченой иглою пронзите
синегубое небо весны:
я мечтаю о вечном транзите,
мне дороги его не тесны!
И казалось, что воздух насыщен
беспокойным предчувствием краж;
а потом появлялся носильщик
и подхватывал тощий багаж,
и шинелька его телепалась
на покатых и острых плечах, –
он бежал, отметая усталость,
а потом онемел и зачах.
Это было во время вакаций
и тянулось минуту одну,
и корявые ветви акаций
не спеша подступали к окну.
«Вдоль заплеванных аллей и осенних желтых змиев…»
Вдоль заплеванных аллей и осенних желтых змиев
губернатор Фундуклей прибывает в город Киев,
прибывает в город Киев губернатор Фундуклей
вдоль осенних желтых змиев и заплеванных аллей.
У шикарного ландо лакированная дверца,
губернатор от и до валерьянку пьет от сердца,
валерьянку пьет от сердца губернатор от и до,
лакированная дверца у шикарного ландо.
Подпирая крепкой шпалой синий рельсовый прокат,
лист шуршит хрустливо-палый, хлопотливо-языкат,
шепчет лист хрустливо-палый, хлопотливо-языкат,
подпирая толстой шпалой смерть и гибель напрокат.
Вихри все со смертью схожи. Деловит и густобров,
настежь бьет из аванложи в грудь Столыпина Богров.
«Будут внукам завещаны наши дома…»
Будут внукам завещаны наши дома
вместе с бюстами наших ученых,
и карнизов кирпичных слепая кайма,
и автобусов наших тоска-кутерьма,
и простор санузлов совмещенных.
Будут правнукам вверены те города,
где Утесов нес музыку в массы,
где так вяло порою сочилась вода
и, как лес, зеленели сберкассы.
Что им скажет вот этот (ученый монах?),
сей первопечатник московский?
И еще в нарочито широких штанах
беспардонный поэт Маяковский?
Что им скажет Казанки сушайший песок
вкупе с Курского Черною Грязью,
и поэзия мемориальных досок,
присягающая безобразью
тех писателей или ученых коллег,
тех конструкторов разных воздушных телег,
геликоптеров и вертолетов,
что в Эдем вознеслись, отработав?
Не довольно ли этой пустой болтовни?
Утомленье. Томленье. Опала.
Мне не хочется верить, что меркнут огни,
если сила себя исчерпала.
Вот XVII век и его терема.
Поколения меркнущий разум.
Будут внукам завещаны наши дома
вместе с форточкой и унитазом.
Будут правнукам вверены наши дома.
Словом – ныне и присно, вовеки
будет осень – не осень, зима – не зима:
громоздить свои льдистые ЖЭКи!
Припадет этот Мир Без Особых Примет
и к твоим деликатным ланитам, –
вечность скуки, которой названия нет,
до скончанья и ад инфинитум!
«Мне часто снится книжный магазин…»