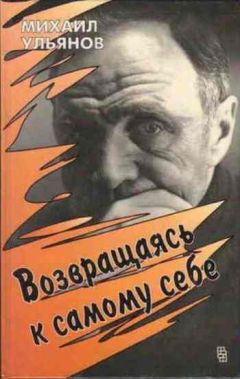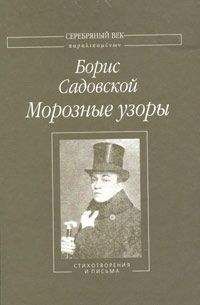Борис Нарциссов - Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы
Я: Как сделать первый шаг? Покажите, и я сразу поставив ногу на этот путь.
Он: Вы не боитесь? С Пути сойти уже нельзя: нельзя вернуться к прежнему а свернувшего в сторону ждет гибель.
Гибель? А что могло быть хуже моей студенческой каморки, где на столе стояла пустая рамка от фотографии и ночью тускло горела над моей бессонницей усталая желтая лампочка «…солнце в шестнадцать свечей…».
И вот, по вечерам, раза два в неделю, я слушал уроки о другом мире, который находился тут же рядом с нами, и надо было только открыть глаза, чтобы его увидеть. Увы, многое, что казалось мне тогда таинственным откровением, я нашел потом в популярных откровениях дешевых книжек о «йоге» Но кое-что было странным: я заметил, что могу передавать свою мысль другим. Мои глаза не открывались еще ни на какой другой мир, но добавилось какое-то шестое чувство: я просто его узнавать то, чего, по времени и месту я знать никак не мог. И я чувствовал, как от растений течет жизнь, и учился впитывать ее в себя.
Учитель мой жил одиноко и давал уроки в бывшей дворницкой, примыкавшей к дровяным сараям двух больших одноэтажных провинциальных домов: в доброе старое время люди жили, не теснясь, и вместо двухэтажного дома строили два отдельных покойных одноэтажных, да еще оставляли сад позади домов: места было много, и «прочь от назойливых глаз» понималось как неотъемлемое условие комфорта. Раз, поздно, уже глухой ночью, я читал вслух книгу, а учитель делал комментарии. Мне мешали читать сухие, резкие звуки в самой стене, надо мной. Они были как электрические разряды. Дело было зимой. Учитель спросил меня: «Вы не боитесь?» Я немного не понял, – чего? – «А вот этих стуков?» – «Но это от мороза…» Учитель сказал: «Выйдите на двор и посмотрите, есть ли мороз, а потом зайдите за дом и узнайте, что за шум в дровяных сараях».
Я вышел на двор. Была мягкая мглистая зимняя ночь с молочным разлитым светом полной луны за тонким пологом облаков. Только что прошел легкий снежок и всё было покрыто ровным белым бархатом: ни следа. Мороза не было: чуть-чуть, и начнет таять. Всё спало. На дворе – ни души. Я обошел жилую часть постройки и подошел к щелястым дровяникам: для воздуха стены были набиты через доску. В самых сараях была «номерная» система: в середине коридор, по сторонам его двери – каждой квартире дровяник, и двери на запоре, чтобы никто дров не крал; общий вход на замке; хозяйка сама запирала под вечер. Ни звука. Мягкая зимняя ночь с разлитым светом луны. Постоял минут десять, очень хотелось узнать, кто стучит. Пошел обратно, сказал, что ничего не было, и опять – резкий сухой треск в стене. Боялся ли я? Нет, был очень доволен. Но не пришло мне в голову спросить самого себя – а кто стучал? И зачем? Бетховен написал целую симфонию о стуке. Стучат тогда, когда хотят предупредить о чем-то. Но мы не замечаем предупреждений. Я думаю теперь, что мой тогдашний учитель тоже не замечал их в своей не очень долгой, но очень бурной жизни. Не думаю, чтобы он сочинил этот случай. Он рассказал однажды, как еще до войны, в Петербурге, он вел спиритический сеанс. Народу было много. Ответы чертились на бумаге карандашом – автоматически. Внезапно беспорядочные записи и ничего не значащие обрывки фраз сменились резким знаком: печатью, и он знал чьей. На вопрос – может ли он проявить полную материализацию? – был ответ: «Да, снимите кресты…» После отказа – карандаш в руке расщепился.
И уже не учитель, а его бывший однополчанин рассказал мне, как однажды поздно вечером чернильница под мирно горевшей на столе керосиновой лампой треснула и стекло вдребезги разлетелось на куски. Живший за 15 улиц от учителя его однополчанин понял, что что-то случилось, бросился к моему учителю и застал его в припадке ярости, на грани убийства, с иконой, брошенной на пол: там был роман, очень неудачный и неуклюже скрываемый. Но я тогда ничего не знал об этом.
Ich hatt' ein' Kameraden… Ich hatte… Даже фотографии не осталось. Было это еще в гимназии. Он был двумя классами старше меня. Я переходил, он оставался. Так мы и встретились. Был он довольно нелюдим. Заикался. Мои спортивные сверстники говорили о нем с почтением: «У него бицепсы – во!» И, в самом деле, бицепсы были – во! Он умел делать одно упражнение на турнике, турник был дома в саду, он и делал всё время это упражнение. Местные поэты говорили про него: «Страсть шикарные стихи пишет…» А у меня тоже было две тетрадочки стихов, только отзывы были степенью ниже: «А он всё про анемоны-лимоны пишет!» Это было оттого, что барышням-одноклассницам прочел стихотворение, начинавшееся так:
«Ранним утром в кустах расцвели анемоны…»
Таким образом мы, т. е. я и Витька, встретились сначала формально и разговаривали на «вы», а потом шатались по вечерам по пустому городу и говорили о стихах, а потом я стал бывать у них дома. Дом был старозаветный, местных старожилов, с достатком, и уж если должен быть в городе праведник, чтобы город стоял, то Витькина мама и была такой праведницей. Ее нет давно на свете, и горько мне, что когда ее хоронили, то, как чужой, я стоял за окошком лаборатории и не смел пойти за ее гробом. Но это всё произошло потом. А тогда она кормила меня, гимназиста, отощавшего без папы и мамы в городе, да и приятелю моему, жившему со мной, в кастрюлечку ужин накладывала. И не за эту кормежку вспоминаю ее как праведницу, а за ее бесконечную доброту и доверие к людям. И была се доброта добротой человека, который испытал тяжкое несчастье в жизни и узнал, что и другим людям больно бывает… «В вашем доме я узнал впервые»… Там и рояль был, и библиотека, и рассказы о встречах в Петербурге. И теперь, вместо ангела-хранителя, побаивался я ее – не огорчить ли чем. Но только побаивался. А вот кого я в самом деле боялся – это Таты. Татьяна была старше Витьки, а и он был старше меня на год-два. Следовательно… Она была на том же факультете, куда и я хотел потом поступить, следовательно – авторитет. Ум у нее был быстрый и насмешливый, а язык острый. Не я один ее боялся. Она была очень наблюдательной и сразу ловила слабые и смешные стороны окружающих. А я очень хорошо знал, что несмотря на свою исключительность (поправка: для самого себя), я был по-деревенски наивен и неловок.
На фотографии я вижу девушку-шатенку, не то что худощавую, а с тонкой костью; у нее узкое лицо, скула обтягивается, нос прямой, северный, глаза внимательно устремлены в книгу. (А глаза были небольшие, быстрые, светло-карие, с искорками.) Самое примечательное в лице – это рот. Лицо мелкое, строгое, – и большой, темно-красный (никаких карандашей), чувственный рот. Она полулежит на диване и читает. На фотографии виден в книге разрез египетской пирамиды.
Насколько я легко выучился болтать по-английски, настолько для Витьки сия грамота оказалась книгой за семью печатями. Впрочем, таких грамот набралось у него тоже около семи. А гимназию кончать было надо: из класса в класс еще туда-сюда – пропустят, но в восьмом классе – выпускные экзамены.
Весною цвели каштаны в аллеях, по которым сто лет назад проходил, грустя, Жуковский и в которых в ночь на первое мая (студенческий праздник), наверное, орал буршикозные песни Языков. А над тихим городом, где бы только и ходить влюбленным парочкам по каштановым аллеям, вместо любовного воркования стон стоял от зубрежки. Зубрили все: и «сколары», и «фуксы», и гордые своими красками «бурши», и просто «дикие». Поясню для непосвященных: сколар – ученик, гимназист; фукс – кандидат на прием в студенческую корпорацию, носит маленькую черную шапочку с козырьком; бурш или «краска» – полноправный член корпорации, или «конвента», носит трехцветную ленточку через грудь и трехцветную шапочку с цветами своей корпорации. Дикий – студент, не принадлежащий к корпорациям. Опомнился и поправляю: поставьте всюду прошедшее время – носил.
Так вот, пока мы были еще вместе в одном классе гимназии, Витькина мама придумала следующее: я буду приходить по вечерам и заниматься с Витькой по всем грамотам, а она будет кормить меня ужином, а по воскресеньям – обедом. Так прошел один гимназический год, я окончил гимназию и был принят на факультет, а Витька остался. Я продолжал с ним заниматься по-прежнему.
Все было хорошо, и даже Таты я перестал дичиться. Теперь мы были уже «коллеги». Но Витька занимался со мною не всегда. То у него была невралгия, то просто ему было лень, или же ему было надо бежать к очередному увлечению – успехом он пользовался у прекрасного пола очень для меня завидным. И тогда я оставался беседовать с Татой: зимой на том самом диване, что виден на фотографии, а весной на садовом диванчике. За два года я и подрос, и подучился, и посмелел. И, как всякий неофит, я хотел поделиться своей новой находкой – тайной наукой, и слушала меня – Тата. Она умела находить очень веские возражения и спорила так, что и опытному спорщику трудно было с ней справиться. Но как будто мои доводы убеждали ее. И с удивлением и ужасом я замечал, что бледнеет и проходит жгучая боль, причиненная предметом моей любви, и заменяется дерзостным восторгом перед Татой. Должен сказать, что и учитель мой, науке которого я сделал великую рекламу в том доме, был приглашен туда, стал бывать, и был он о Тате самого высокого мнения. Все было хорошо, пока однажды не пришел врач, не выслушал Тату и не произнес приговора: туберкулез. И новая боль вспыхнула во мне: уже не о себе самом, а о Тате. Туберкулез – бич Балтики. Конец приходит скоро. Новыми бессонными ночами я придумал средство: буду передавать свою силу жизни Тате. Повторю опять – живучесть у меня кошачья и кое-чему я научился. Учитель согласился на это. Так началась еще одна весна. Я замечал, как вздрагивала Тата, когда ее настигала волна, посылаемая мною. Ей стало лучше. Может быть, от всего того ухода и внимания, которым мы все ее окружали. Тата заметила мой эксперимент и запретила мне его продолжать. Но раз установившийся контакт продолжался самотеком. Мы легко читали мысли друг друга. Не надо было много спрашивать: это было любовь. Мы решили, что мы – жених и невеста, но не объявили широко о нашем решении, – только две семьи должны были пока знать об этом. У Таты были свои дома, я должен был помочь ей в управлении имуществом, привести всё в порядок, а затем, кончив университет, начать свое дело. В девятнадцать лет всё это казалось мне вполне осуществимым.