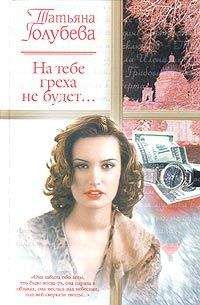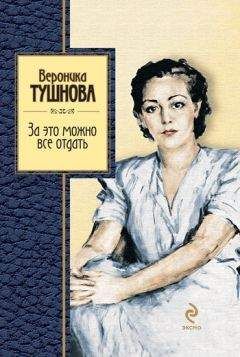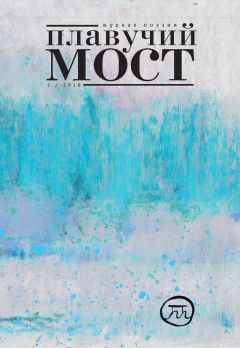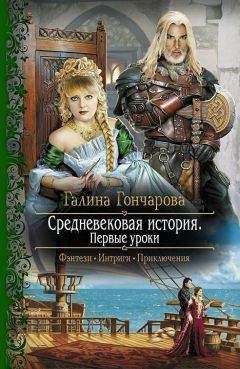Семён Раич - Поэты 1820–1830-х годов. Том 2
159. ПЕРВОРОДНАЯ НЕВЕСТА
Грядой идут, сменяются века,
А ты одно в создании природы,
О солнце! Чья всесильная рука
Повесила тебя на голубые своды?
Он, вечный, Он, источник дней,
Предшественник великого начала:
Его-то воля увенчала
Тебя величием негаснущих лучей!
Как было радостно природы пробужденье
От безначального, таинственного сна,
Когда твое златое восхожденье
Из бездны хаоса подняло времена!
И в утро первое, стыдливостью сгорая,
От ложа брачного приподнялась заря, —
И перлы слез ее упали среди рая
На первого земли и сына и царя.
Восстал он, — взор его был солнцем очарован,
С ним огнь души почувствовал родство,
И вечно взор его к тебе бы был прикован…
Но есть в раю земном светлее существо:
Она — венец создания природы!
О, чье подобие и чьи на ней черты?
Где провела она младенческие годы?
Кто возлелеял в ней влиянье красоты?
Но… в тот же миг, когда любовь рождалась,
Любовь — союз времен и бытия,
Уже под ней, скрываясь, извивалась
Грехопадения змея!
160–161. <ИЗ ПОВЕСТИ «ПРИЕЗЖИЙ ИЗ УЕЗДА, ИЛИ СУМАТОХА В СТОЛИЦЕ»>
1. «На холме, миртами венчанном…»
…Молодой человек начал декламировать следующие стихи:
На холме, миртами венчанном,
Где льется шумный водопад,
На ложе роз благоуханном,
Среди приюта Ореад,
Склонился юноша прекрасный
С подругой нежной, пылкой, страстной.
Их чувства вспыхнули, горят,
Душа в блаженстве неги тает!..
И поцелуями порой
Он страстный шепот прерывает
И душу девы молодой,
Как дивный не́ктар, испивает!
— Ах, как хороши! Чудо! Я не знаю в этом роде ничего лучше!..
И поцелуями порой…
Он страстный шепот прерывает…
— Несравненно! Как вы назвали фамилию поэта?
— Ордынин.
— Сделайте одолжение, познакомьте меня с ним. Я вне себя…
2. «Кто он? Гигант и Атлас новый…»
…Поэт, возгорженный хвалой, потер лоб, смело окинул всех вопросительным взором и произнес, возвысив голос: «Кто он?..» Все вздрогнули от неожиданности подобного вопроса.
Кто он? Гигант и Атлас новый,
На рамена поднявший свет
И бросивший его в оковы
Могучей дланию побед?
Поэт приостановился, как будто ожидая ответа, — все молчали.
Кто он? Как конь неистов, тучей
Над миром мчится, громом ржет,
Пыль из ноздрей как вихрь летучий,
Из уст клубами пена бьет,
От взоров молнии снопами,
Бежит — и царства бьет стопами!
Кто он?
— Браво, браво! Это Барбье!.. тс!
— Выше!
— «Над миром мчится, громом ржет!» Каково?
— Тс!
Кто он? Под огненным венцом,
Стопы на грудь поставил мира?
Пылает, искрится на нем
Из молний тканная порфира.
Вокруг него рабы рабов
Стоят не живы и не мертвы;
Взор грозный движет тьмы полков,
Десница исчисляет жертвы?
Кто он?
Кто он? Тот вождь непобедимый,
Внимавший хор земных похвал,
Сорвавший с глав их диадимы?..
Кто он?.. Не спрашивайте!.. Пал,
Пал гений, славою ведомый,
И смолкли грозы, стихли громы!
Весь мир облекся тишиной…
И род Адама отдыхает…
И снова плавною струей
Река событий протекает,
— Incomparable[84]! Чудно!
Поэт торжествовал, осыпаемый восклицаниями удивления и похвал.
<1841>
162. РУСАЛКИ
(Картина)
Ночь. Месяц отражается в Днепре. Над рекой мрачное ущелье. Русалки выносят из воды девушку-утопленницу, разоблачают ее и расчесывают ей косу.
Вод лазоревых жилица,
Пробудись, краса моя,
Наша новая сестрица,
Наша светлая струя!
К жизни чувствами воскресни,
Плавай с нами и резвись,
Пой пленительные песни,
В пену белую рядись!
Наслаждайся негой праздной,—
Омут краше всех хором:
Обнесен стеной алмазной
И унизан жемчугом.
Всех, кто жизни шлет проклятья,
Пылко, страстно полюби,
Замани в свои объятья
И в пучине утопи!
ТРИЛУННЫЙ
(Д. Ю. Струйский)
Биографическая справка
Дмитрий Струйский доводился двоюродным братом поэту А. И. Полежаеву. Они оба были «незаконными» детьми помещиков Леонтия и Юрия Струйских, прижитыми ими вне брака от дворовых девушек.
Дмитрий Струйский родился 6 сентября 1806 года в селе Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии. В отличие от Полежаева, он сызмальства находился при отце и получил подобающее барскому дитяти воспитание. В 1818 году Ю. Н. Струйский узаконил свой брак с матерью Дмитрия, после чего пятнадцатилетний юноша поступил в Московский университет уже в качестве полноправного дворянина. За три года он прошел курс наук, преподаваемых на нравственно-политическом отделении, а затем определился на службу в архив иностранной коллегии, ставший в то время пристанищем для любомудров. Струйский не нашел случая сойтись с ними, в частности с Веневитиновым, о чем впоследствии очень сожалел[85].
В 1827 году он первый раз выступил в печати с поэмой «Аннибал на развалинах Карфагена», вызвавшей неодобрительные отклики в журналах. П. А. Вяземский в своей рецензии («Московский телеграф», 1827, № 10), похвалив «несколько хороших и сильных отдельных стихов», «некоторый жар в выражении»[86], отметил несообразность, положенную в основу произведения: на развалинах Карфагена скитался не Ганнибал, а Марий.
Фактом первостепенной важности в литературной биографии молодого Струйского была его увлеченность творчеством и личностью Байрона, с произведениями которого он знакомился в английских оригиналах. В 1829 году молодой поэт публикует в «Галатее» за подписью «Трилунный», отныне ставшей его постоянным литературным псевдонимом[87], перевод отрывка из байроновского «Гяура». Вслед за тем в том же журнале появляется поэма Струйского «Осада Миссолонги», носившая подзаголовок: «Подражание байроновой поэме „Осада Коринфа“». В 1830 году — очевидно, уже после своего переезда в Петербург — Трилунный печатает в «Литературной газете» перевод отрывка из «Чайльд-Гарольда», а в 1832 году два фрагмента из поэмы «Байронова урна», посвященной Байрону — глашатаю прав человека, борцу за свободу Греции. «Телескоп» известил о подписка на это произведение, но оно не вышло в свет, может быть из-за цензурных затруднений[88].
Байронизм Трилунного не был дешевым фразерством, как это нередко случалось в его время. Он несомненно вытекал из отношений поэта к современному обществу. Судя по всему, они были отчужденные, неприязненные, вносившие дисгармонию в его собственное сознание. «Я нахожу в своем сердце неисчерпаемый источник печали»[89],— писал Трилунный. Мрачный взгляд на жизнь, усвоенный им, был не позой, а подлинным выражением его личности.
В своих стихах Трилунный не ограничивается абстрактными вещаниями о несовершенстве человеческой жизни. В них нередко встречаются колкие выпады с довольно конкретным социальным адресом. Сатира эта чаще всего импульсивна, а порой и легковесна, но игнорировать ее значение — особенно в эпоху спада гражданской активности, какой были 30-е годы, — неверно. В ряде стихотворений Трилунный ополчается против господствующего в обществе преклонения перед материальной силой, богатством, против обладателей этой силы — высокопоставленных бюрократов, вельмож, против паразитического существования светской молодежи. Привлекательной особенностью Трилунного-поэта был и его отчетливо выраженный демократизм — искреннее сочувствие многотрудной доле «поселян», городской бедноте, социально униженным и неполноправным людям (поэма «Картина», «Шарманка», «Кормилица», «Две встречи» и другие). В этом отношении его творчество представляет весьма любопытную параллель поэзии Полежаева, с которой он перекликался и мотивами, и образами, и даже ритмикой своих стихов.