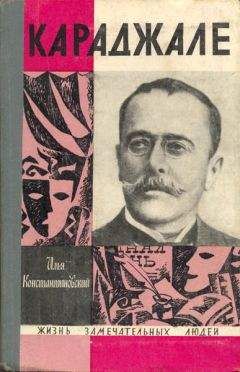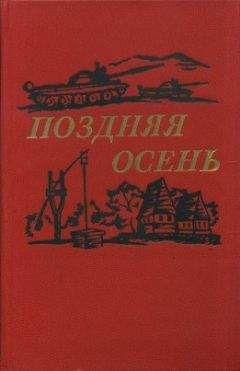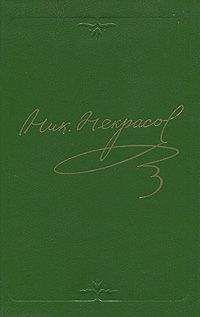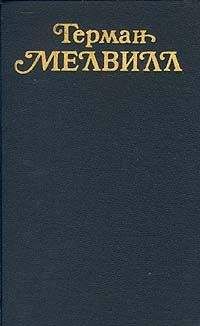Василе Александри - Александри В. Стихотворения. Эминеску М. Стихотворения. Кошбук Д. Стихотворения. Караджале И.-Л. Потерянное письмо. Рассказы. Славич И. Счастливая мельница
1881
ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ
Перевод Л. Мартынова
Ты спросил: а что ж засохли на пере моем чернила,
Почему от дел текущих оторваться я не в силах,
Почему в бумажной куче спят, хирея и старея
Резвый дактиль, ямб могучий и певучие хореи?
Если б знал ты жизнь, с которой мне приходится сражаться,
Ты бы понял, что рискует и совсем перо сломаться.
В самом деле, что ж стремиться, волноваться и бороться,
Новых форм искать в надежде, что вот в них-то и вольется
Наш язык богатый, древний… А потом, оставив это,
Как товар, сбывать на рынок театральные куплеты.
Лишь для этих сочинений в наши дни пути открыты,
И, по требованью света, сочиняешь пустяки ты!
Ты как будто возражаешь, что твореньями моими, —
Пусть хотя б и в этом духе, — я могу составить имя,
Если, скажем, нашим дамам посвящать стишки начну я,
Привлеку мужей вниманье, высший свет я очарую
И известность мировую получу… а отвращенье
Утолю я в тайных мыслях, получая утешенье
В том, что лучшие-то чувства все равно при мне остались!
Друг мой! По дорожке этой многие ходить пытались!
Ведь воспитано столетьем поколенье странных бардов,
Удивительно способных походить на куммулярдов [47].
И они приобретают меценатов благосклонных,
В кабаках стихи читают, пресмыкаются в салонах,
Но поскольку даже так вот трудно жить на белом свете,
То ловчатся за подолы уцепиться барды эти,
Славословя важных барынь, чьи мужья, по крайней мере,
Могут выскочить в министры и открыть пути к карьере!
Друг мой, ради этой славы не хочу писать я ныне, —
Небольшая это слава — проповедовать в пустыне.
В наши дни, когда мы стали лишь страстей своих рабами,
Слава есть фантом, несомый превеликими глупцами
На алтарь божка — уродца с гномика величиною;
Исполином он зовется, а ведь он не что иное
Здесь, в ничтожном нашем свете, как пузырь ничтожной пены!
Может быть, настроить лиру и запеть мне вдохновенно
Про любовь? Но не прельщен я золотою цепью тою,
Что любовников сковала, и по-братски меж собою
Делят двое или трое эту цепь! О нет! Довольно
Мне играть на этой струнке, примыкая добровольно
К хору старца Менелая в оперетте невеселой!
Женщина, подобно жизни, нынче кажется мне школой,
В коей учишься лишь горю, униженью и обману…
В академию Венеры поступают неустанно
Лишь безусые мальчишки, все моложе с каждым годом…
Школа страсти! Время рухнуть обветшалым этим сводам!
Помнишь, друг мой, нашу юность? Мы учились, мы мечтали,
Слушая ученых старцев, что наряд времен латали,
Трупики мгновений древних все искали меж томами
И премудрости старинной любовались черепками.
Изучивши все на свете, лепетали horum-horum,
Nervum rerum gerendarum[48]. И латынью гонорары
Зарабатывали честно. Вместе с тем и — уваженье.
Управляли рычагами нашего воображенья,
Чтоб укачивать, как в люльке, богомольно, чинно, сонно
То всю землю, то отдельно каждый трупик фараона…
Вспоминаю астронома… Стражник темного покоя,
Отвечая на вопросы: «Бесконечность — что такое?» —
Он совал нам в руки космос… Если было нам неясно,
То планетные системы он вытаскивал бесстрастно
Из хаоса, как из шкафа, и нанизывал на нити,
Словно бусы ожерелья, бесконечные открытья.
И вселенная казалась ветхой мельницей ручною,
В голове у нас хрустящей. И, ликуя, мы с тобою
Восклицанье Галилея повторяли: «А ведь все же
Вертится она, планета!» Так и жили, знанья множа.
Оглушенные латынью, схоластическою пылью
И космическим туманом, грезы путали мы с былью
И профессора-беднягу принимали в нашей школе
За одну из древних мумий, полусглоданную молью.
Слушая его, Рамзеса, видя своды в паутине
И осевшие колонны, об очах мечтали синих,
На полях унылых лекций нежные писали строки,
Посвященные Клотильде некоей розовощекой.
И в сознании мешались день грядущий, день вчерашний,
И какое-нибудь Солнце, и Рамзес, и скот домашний.
И в тиши скрипели перья… В том своя имелась прелесть…
Грезилось льняное поле и пшеницы вольный шелест,
Голова склонялась к парте, взор наш с вечностью сливался…
И звонок тут раздавался. Знали мы — Рамзес скончался!
Друг! В то время наши грезы были явью величайшей,
И, напротив, явь казалась невозможностью дичайшей!
Лишь теперь мы убедились, как бесплоден и опасен
Этот путь! Лишь чистый сердцем по нему идти согласен.
Ведь мечты грозят бедою всем, кто в буднях этих живы!
Ведь, попав во власть иллюзий, вы погибли и смешны вы!
И поэтому не стоит, дорогой мой, дознаваться,
Почему от дел текущих не хочу я оторваться,
Почему в бумажной куче спят, хирея и старея
Резвый дактиль, ямб могучий и певучие хореи.
Опасаюсь — если буду продолжать грешить стихами,
Каждый современный евнух удостоит похвалами.
Мне смешно их порицанье, но, без всякого сомненья,
Похвалу их заслуживши, я умру от отвращенья!
1881
ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ[49]
Перевод И. Миримского
Положив кулак под щеку, на земле сухой и дикой
Спал султан, любимец бога, кочевых племен владыка.
И во сне он вдруг увидел, как с небес луна скатилась
И у ног его мгновенно в чудо-деву обратилась.
А за ней в безбрежной сини, ослепительно блистая,
Полоса лучей тянулась, как дорожка золотая.
И, роняя капли света, словно брызги дождевые,
От восхода до заката встали радуги ночные.
И в немом просторе неба, где-то в звездном хороводе,
Раздавался еле слышный звон пленительных мелодий.
Очарован юной девой, лес качался еле-еле,
Воды тихо улыбались, ветры в поле присмирели.
Вот она садится рядом, протянув султану руки,
И в ее покорном взоре отраженье тайной муки.
— О, приди в мои объятья, мне от века нареченный!
Утоли своей любовью скорбь души моей смущенной.
В сокровенной книге неба предначертано судьбою:
Будешь ты моим владыкой, я — твоею госпожою. —
Он встает навстречу деве, но… растаяло виденье,
Вот он видит, изумленный, новый сон: в одно мгновенье
Дуб огромный вырастает из груди его могучей,
Он растет все выше, шире, небосклон затмив, как туча,
Крылья веток расправляя, словно сказочная птица,
И на лик земли утихшей тень гигантская ложится.
И султан глядит и видит: мир от края и до края —
Воды Тигра и Евфрата, воды синего Дуная,
Цепи Атласа седого и в песках гробницы Нила —
Все своей рукою черной тень державная закрыла.
Корабли в открытом море и хлеба на тучных нивах,
Многоводных рек изгибы, шпили башен горделивых,
Гавани, поля, селенья с их движеньем неуемным —
Все его открылось взору, будто на ковре огромном.
Видит страны и народы, что, свою оплакав славу,
Собрались под черной тенью в небывалую державу.
Чу! Гудит победно ветер, и трубят призывно трубы
И волнами ударяют по зеленой кроне дуба.
Клич «Аллах! Аллах!» несется, стяги мечутся, как тени,
И взлетают к небу вопли нескончаемых сражений.
Дуб встревоженный трепещет и шатром необозримым
Ветви темные склоняет до земли над новым Римом.
И султан проснулся, вздрогнув… Вот плывет луна большая
Над равниной Эскишерской, замок шейха озаряя,
Из окошка на султана смотрит девушка с улыбкой.
Очи девушки — озера, стан ее — орешник гибкий.
Малкатун зовут красотку, дочь седого Эдебали,
И подобных ей красавиц люди в мире не видали.
И султан смотрел и думал, и в раздумии глубоком
Понял он, что сновиденье послано ему пророком,
Что империя большая от любви его родится
И аллах единый знает, где пройдет ее граница.
Сон сбывался: год за годом, словно огненная лава,
Превращая страны в пепел, крепла, ширилась держава.
Обновлялись поколенья, и султан сменял султана,
Но под знаменем зеленым кровь струилась непрестанно.
Наконец сквозь тьму ночную засияли синим светом
Волны древнего Дуная перед пылким Баязетом.
Подан знак: и взвыли трубы, борт о борт сомкнулись судна,
И покрылся сонный берег ратью шумной, многолюдной,
Сколько тут сынов аллаха — янычар и спагов было!
Вся долина у Ровине почернела, приуныла.
Но костры уже пылают, и шатры давно готовы.
Далеко, у края неба, притаился лес дубовый…
Вот идет с зеленой ветвью от румын посланец мира.
На него с презреньем смотрит покоритель полумира.
— Говори, чего ты просишь? — он лениво вопрошает.
— О великий император, мира наш народ желает!
И желает Мирча Старый видеть нынче вашу милость. —
Баязет махнул рукою — стража тихо расступилась,
И подходит старец, скромен и в одежде и по речи.
— Мирча?
— Да.
— Пришел с поклоном? Я люблю такие встречи.
А не то венец твой княжий на венец сменю терновый.
— Ты мой гость, пока мы в мире, — вымолвил старик сурово. —
Что ж касается поклона — не взыщи, царей владыка;
Поклониться — покориться! Покоряться ж не привык я.
Все равно, с войной иль с миром ты пришел на нашу землю, —
Все, что суждено мне роком, я безропотно приемлю!
— Как! Не хочешь ли ты, старец, чтобы грозный Алиотман
О простой сучок споткнулся на пути бесповоротном!
Знаешь ты, какая сила мне дорогу преграждала?
Весь могущественный Запад, короли и феодалы,
Цвет воинствующей знати — полководцы и бароны, —
Всех их поднял вихрь крылатый, полумесяцем взметенный.
Орды рыцарей мальтийских в латах лучшего чекана
И в тройной тиаре папа, бог земной из Ватикана.
Он собрал все грозы мира против той грозы, с которой,
Всех к ногам своим склоняя, я прошел моря и горы.
Словно тучи грозовые, потрясая мира своды,
Из пустынь, лесов дремучих под крестом текли народы;
Сея черный ужас смерти, угрожая мне войною,
Щит к щиту и сабля к сабле шли они сплошной стеною.
Столько лагерей военных под Никополем[50] скопилось,
Что, казалось, ад разверзся, солнце в небе помутилось!
И, увидев, как их много, я в душе, не знавшей страха,
С дикой яростью поклялся вечным именем аллаха,
Что, как меч, сквозь все преграды я пройду неотвратимо
И коней овсом и сеном накормлю в соборах Рима.
Ты же с посохом явился, словно я не видел палки,
Да и сам ты, как я вижу, лишь старик, седой и жалкий.
— Да, я стар и слаб, не скрою, но в большой душе народа
Я не просто дряхлый старец, воин я и воевода;
И желаю, чтоб изведать не пришлось тебе вовеки,
Как тяжел кулак румынский, как глубоки наши реки.
С давних пор на нашу землю шли непрошеные гости.
Ордам Дария Гистаспа[51] первым мы крушили кости.
Многие на наших реках возводили переправы,
Но обратно возвращались без доспехов и без славы
Повелители, которым белый свет казался тесным,
Растеряли все доспехи по долинам по окрестным.
Ты кичишься, что с победой пролетел, как вихрь крылатый,
Что тебя не остановят ни оружие, ни латы;
Ты бахвалишься, что Запад на пути твоем поднялся.
Что вело его, скажи мне? Чем он к битвам вдохновлялся?
Он хотел сорвать лишь лавры с головы твоей венчанной,
Веру нес он и пороки на мечах в чужие страны.
Ты пришел к нам за богатством, ну, а я, корысти чуждый,
Я народ свой защищаю, нашу бедность, наши нужды.
И скажу тебе не ради хвастовства или угрозы:
Всех поднимет гнев священный, и пожнешь ты кровь и слезы.
Все, что есть в стране румынской, на земле ее и в недрах,
Камни, воды и деревья — все мне друг, тебе же — недруг.
Нет у нас брони тяжелой, но любовь к отчизне — сила,
Что снесет тебя, как буря, как других уже сносила.
И старик ушел. И сразу все вскипело по тревоге:
Всколыхнулся лес дубовый, пылью вспыхнули дороги.
Оглушая звоном стали, ослепляя медным блеском,
Вырываются из чащи по зеленым перелескам
И навстречу Баязету вдоль долины у Ровины
С боевым протяжным кличем скачут вольные дружины;
Поднимая клубы пыли, кони стелются в галопе,
Всадники, склонившись низко, потрясают лесом копий.
Тетива звенит тугая, и навстречу басурманам
Свищут стрелы огневые смертоносным ураганом.
Стон стоит на поле брани, с четырех сторон открытом,
От мечей валятся турки, умирают под копытом.
Ой, напрасно император тигром воет разъяренным!
Ой, напрасно пред войсками машет знаменем зеленым!
Смерти тень над ним все шире, горе, горе, Баязету!
Не сдержать ему бегущих, и спасенья больше нету.
Настигают пеших стрелы, оземь грохаются кони.
Впереди Дунай глубокий, не уйти им от погони.
У того, кто пал подбитым, ужас омрачает разум:
Кажется, как в день последний, небо упадает наземь.
На коне своем любимом Мирча в самой гуще боя,
Он ведет свою лавину, попирая все живое.
С громом всадники несутся, рассекают вражью стаю,
Прорубают в ней проходы, гонят к синему Дунаю,
Словно огненное море, жгут и топят без пощады…
И на смену павшим братьям скачут новые отряды.
Разлетелись янычары, как по ветру горсть мякины,
И за ними, торжествуя, мчатся храбрые румыны!
Смолкла битва, и герои засыпают сном тяжелым.
Солнце медленно садится и победным ореолом,
Словно молнией застывшей, окаймляет лагерь сонный:
Отдыхающих героев и усталые знамена.
И луна, царица неба, выплывает из-за леса,
И спускается на землю ночи синяя завеса.
Все утихло, все уснуло — небеса, земля и воды,
Лишь один в шатре зеленом сын седого воеводы
На щите своем измятом, сладкой думою томимый.
Пишет нежное посланье в край родной своей любимой:
О тебе, душа, горюя,
Из Ровине говорю я.
Не устами, письменами.
Потому что ты не с нами.
Ты скорее напиши
И прислать мне поспеши,
Что дороже для души:
Лес зеленый с птицами,
Очи да с ресницами.
Напишу и я сейчас,
Что дороже здесь для нас;
Бор с листвой зеленою,
Войско закаленное,
Шишаки высокие
Да глаза далекие.
Я не ранен, не убит,
Бог меня еще хранит.
Поцелуй с письмом летит.
……………………………..
Вот какое время знали летописцы и рапсоды!
А сейчас, куда ни глянешь, — скоморохи и уроды.
Лишь в преданиях народных живы древние герои.
Почему ж не воспевают скрипки, флейты и гобои
Тех великих патриотов, что явились к нам позднее
И с тех пор владеют нами, наложив ярмо на шею?
О герои дней минувших, вас тревожат моды ради
И цитируют сегодня все, кто с разумом в разладе.
Драпируют вашей славой хвастовство геройской позы.
Век поэзии священной превращая в жвачку прозы.
Будьте ж вы благословенны, Бассарабы, Мушатины,
Вы, что дали нам законы и обычай наш старинный,
Вы, что саблей и сохою край раздвинули суровый
От высоких гор до моря и Дуная голубого!
Впрямь ли век наш так ничтожен? Может быть, в помойной яме
Отыщу я клад богатый с драгоценными камнями?
Разве мы не в Сибарисе[52]? Не у храма подлецов ли?
Разве гений не страдает и без хлеба и без кровли?
Разве нет у нас героев, что мечами красноречья
Наносить умеют ловко очень тяжкие увечья?
Государственных паяцев, что танцуют на канате
Иль голодному народу врут о высшей благодати?
Либералов, что болтают о любви к своей отчизне,
Прикрывая мишурою грязь своей порочной жизни?
Посмотрите, вот бесстрашный рыцарь баров и борделей!
Что ему людские муки и возвышенные цели!
Вот чудовище разврата, дрянь без сердца и без мысли,
Щеки лоснятся от жира, брови на глаза нависли.
Вот он, сгорбленный и жадный, порождение ехидны,
Он направо и налево изрыгает вздор бесстыдный.
На устах слова о чести, а внутри одни гнилушки,
Он ничтожество ничтожеств от пяты и до макушки.
Окруженный шумным клиром, поводя глазами жабы,
Озирает свое войско тот, кому давно пора бы
Отвести по праву место в доме для умалишенных.
Пусть среди себе подобных рассуждает о законах,
Облагает всех налогом и сиделок держит в страхе,
Пусть он делает, что хочет, но — в смирительной рубахе.
Справедливость! Добродетель! Вот светила учреждений,
Где царит с утра до ночи шум бесплодных словопрений,
На скамьях, как на амвоне, с раболепием собаки,
Восседая, рукоплещут виртуозному кривляке,
И, захлебываясь ложью, нам толкуют неустанно,
Что они потомки римлян, внуки славного Траяна[53],
Все отбросы и подонки, вся отравленная пена —
Вот кто родиной моею управляет неизменно!
Все, что рождено развратом, все, что мерзостно и гнило,
Все, на чем сама природа метку смерти наложила,
Все, что хищно, вероломно, весь Фанар[54] и все илоты[55],
Все стеклось на нашу землю, все полезло в патриоты.
Болтуны и фанфароны, криворотые заики
На спине народа пляшут и справляют пир великий.
Это вы — потомки римлян? Вы — слюнявые уродцы!
Кто из вас мужчиной просто с полным правом назовется?
Это вы — Траяна внуки? Вы— изнеженные твари?
Наш народ и нашу славу вы срамите в каждом баре.
Вам, торгующие честью, вам сегодня говорю я:
Имя нашего народа поминать не смейте всуе!
Там, в Париже, в шуме оргий и безумных вакханалий,
Вы и юность и наследство безвозвратно растеряли.
Что давал вам пышный Запад? Что ему давать могли вы?
Да и чем вы удивили наш народ неприхотливый?
Вместо шпаги или сабли тростью франта площадного,
Пудрой, краской и лорнетом вместо разума живого.
Вы состарились до срока, все, что знали, вы забыли,
В голове вы сохранили только вальс из Бал-Мабиля[56]
И подвязку куртизанки в вашей нищенской котомке…
Как я вами восхищаюсь, римлян гордые потомки!
Что ж вы смотрите со страхом в наши сумрачные лица?
Странно вам, что мы устали слушать ваши небылицы!
Да, мы поняли, что фразой, громыхающей и лживой,
Вы скрываете искусно жажду власти и наживы.
И теперь, когда для плута настает пора иная.
Вы умыть спешите руки, на других людей кивая!
Слишком долго вы глумились над страной и над народом,
Слишком долго подвергали нас лишеньям и невзгодам,
Мы терпели и насмешки, и змеиные укусы.
Маска сорвана, мы видим: негодяи вы и трусы!
Гений — сущее несчастье! Совесть — вредная химера!
Только золото и праздность — ваши боги, ваша вера!
Так оставьте же хоть мертвых, пусть они лежат спокойно.
Вы не только славы предков, их презренья не достойны.
О приди, могучий Цепеш[57], и, тяжелый сон развеяв,
Раздели их на две шайки — на безумцев и злодеев,
В две огромные темницы заточи их без раздумья
И сожги огнем священным и тюрьму, и дом безумья!
1881