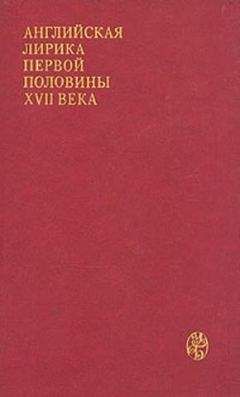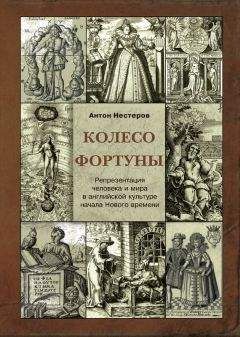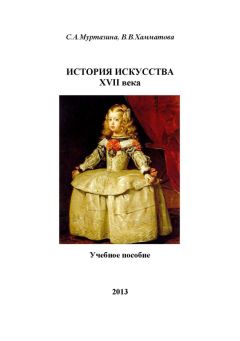Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Тут-то и пресеклась первая часть симфонии молчания Александра Еременко. 4’33’’ миновали, наступило время нервного allegro, отмеченное сборником стихотворений разных поэтов, написанных о Еременко либо ему посвященных. О «Ерёме» понадобилось специально напомнить – не потому что забыли те, кто помнил, а по причине неприсутствия его стихов и жестов в сознании нового поколения вошедших в круг читателей и почитателей русской поэзии.
Здесь начинается самое главное, длящееся по сей день затмение привычных представлений «о поэте и поэзии». Стихотворчество быстрого реагирования в нынешние скудные годы новых очаковских времен немедленно сменило регистр: вместо надежд и иронии, обращенной в прошлое, нарождается и крепчает скорбная интонация неприятия современности, новая социальность оборачивается прессингом и троллингом по адресу сужающегося сектора дозволенных высказываний на фоне возрождения неволи и потуг по созданию единых учебников всех наук. Все эти новоявленные актуальные интонации, разумеется, глубоко логичны, обусловлены самою природой времени, но… Но что же Еременко? А Еременко-то безмолствует по-прежнему! В этом молчании опять различимы новые смыслы. Становится очевидным, что и в советские, и в ранние постсоветские времена противники и сторонники разных версий ортодоксии были скованы одной цепью общего смысла: существовали на фоне и вопреки друг другу.
Видимость свободы обмена буквами в информационную эпоху обернулась губительными последствиями для всех былых оппонентов – слышнее всего для «широкого читателя» оказались облегченная ироничность и поверхностная эстрадность. В отсутствие мученического ореола патентованная верность поэтической подлинности уходит в артхаусную тесноту, «обычному» человеку почти совершенно не внятную. Геройски рискованное писание в стол или в тамиздат вышло в тираж: пиши и говори сколько угодно, тебя больше не услышат, и вовсе не по причине цензурного террора или прямых репрессий. Все изменилося под нашим зодиаком, все перевернулось, и почти только один Ерема остался верен себе. Волны громких возгласов перекрыли друг друга, стало слышнее, что он в последние годы не вовсе молчит, а скорее шепчет:
Скажу тебе, здесь нечего ловить.
Одна вода – и не осталось рыжих.
Лишь этот ямб, простим его, когда
летит к тебе, не ведая стыда.
Как там у вас?
………………………………………………
Не слышу, Рыжий… Подойду поближе.
Если приглушить фон разнозвучных рулад классиков и дебютантов, то театральный шепот молчащего свидетеля былой и нынешней эпохи Александра Еременко станет еще слышнее и многозначительней:
В воюющей стране
не брезгуй тёплым пивом,
когда она сидит, как сука на коне.
В воюющей стране
не говори красиво
и смысла не ищи в воюющей стране.
Не очень-то верится, что это произнесено не сегодня, а, по крайней мере, позавчера, тем более отчетливо важным является совсем уж апокалиптическое изречение Александра Еременко:
Больше я не скажу ни строки.
А в конце, чтобы всё было честно,
На Язык возложите венки.
И ведь самое существенное состоит в том, что это не самоличный отказ от стихов в очевидной логике антигорациевой риторики невозможности памятника из слов и строф. «Анти-Памятник» по версии Еременко выглядит радикальнее. Не только поэтический язык пресекается на наших глазах, но язык как таковой. Расширим логику Горация-Державина-Пушкина и иже с ними до четырех возможных сценариев конъюнкции, регулирующей взаимоотношения внешней реальности языка и аристотелевски «подражающего» ей поэтического слова.
Первый сценарий: реальность незыблема, поэтический слог невечен, проще говоря, внешняя жизнь живее всех поэтик.
Второй: внешняя жизнь все так же абсолютна, но и поэзия также бессмертна (это, собственно, и есть ситуация всех «Памятников»).
Третий: окружающее не-бесконечно, но лишь искусство (поэзия) его сохраняет, придает смысл. Это вариант любого жизнетворческого искусства, симолистского, например.
Александр Еременко провозглашает (вслед за поздним Баратынским?) еще один, четвертый (анти-Бродский) сценарий – «весь умрет» не только поэт, но и язык как таковой. Новый «последний поэт» явился? Посмотрим сказал слепой, рассудим еще, насколько эта эсхатология, простите на парадоксе, жизнеспособна! Но как бы там ни было, пора произнести, кроме всяких шуток: признаки окончательного ухода поэзии из фокуса пристального коллективного внимания и уважения есть, и они нарастают. По крайней мере – в одной отдельно взятой стране…
Значит правда, что ли, «Блажен, кто молча был поэт»?
БиблиографияOpus Magnum. М.: Деконт+, 2001. 526 с.
Новые стихи // Знамя. 2005. № 1.
Литература других регионов // Дети Ра. 2006. № 5.
Стихи // Урал. 2007. № 4.
В густых металлургических лесах: Сонет // Дети Ра. 2010. № 11.
Хроника текущих событий // Знамя. 2012. № 10.
Михаил Еремин
или
«Продлиться пересказом или утварью…»
Есть, есть еще люди в наше время! Вот Михаил Еремин писал не только в Ленинграде семидесятых-восьмидесятых, в пору расцвета так называемой «филологической школы», но и сегодня, в нынешнем Санкт-Петербурге продолжает создавать свои причудливые, всегда исключительно восьмистишные миры. В восьмистишиях Еремина всегда присутствуют слова необычные, порою изысканно-редкие, диковинные: «циркумцеллионствовать», «реотаксис», «калибиты», «эрратические», «антецедентные», «амредиты»… Слова, подобные приведенным, далеко не всегда придуманы самим поэтом, есть много случаев привнесения в стиховую ткань специальных терминов, имеющих весьма конкретное значение для посвященных и неведомых большинству читателей, ленящихся «заглядывать в академический словарь».
Термин по-разному взаимодействует с «обычными» словами в зависимости от композиционной разновидности конкретного стихотворения. Возьмем, например, восьмистишие-пейзаж, каких у Еремина немало:
Полночна констелляция,
Пруд – лоно лунно – без морщинки,
И – тени, тени, тени… – акустическое одиночество.
Упругую поверхность возмутить
(Затрепетала спугнутая элодея.),
Припав губами. Жажда –
Извечнее
И приснее воды?
Здесь несколько слов имеют терминологическое значение либо обозначают отвлеченные понятия, которые без некоторого смыслового смещения, казалось бы, не могут быть просто через запятую включены в перечень созерцаемых предметов и явлений пейзажа. Так, «констелляция» в прямом значении – «сочетание светил на звездном небе», в переносном – значимое взаиморасположение и взаимосуществование предметов или факторов. Прямое и переносное значения тесно взаимодействуют, поскольку в поле зрения входят вещи и обстоятельства, благоприятствующие созерцанию звезд (полночная пора, поверхность пруда). Однако звезды в стихотворении не упоминаются – в том числе и потому, что пруд непрозрачен, зарос элодеей – растением, которое называют еще водяной чумой. Речь, значит, вовсе не о привычной «картинке», которая готова сама собою возникнуть при одном упоминании о полуночи вблизи воды. «Констелляция» означает как раз «сочетание факторов» – весьма разнопорядковых: не только доступных зрению, но и «слуховых», кстати, также описанных не без слов-терминов («акустическое одиночество»). Напиться из мутного, заросшего элодеей пруда можно только при наличии сильной жажды, именно об этом вполне бытовом событии здесь идет речь. Но бытовая конкретность тает, если вспомнить, что сопутствует глотку ночной воды. Во-первых, возвращается на первый план зрительная составляющая пейзажа, чуть ранее уступившая первенство слуховой: нарушается незыблемость водяного зеркала. Во-вторых, стартовая точка ереминского описания пейзажа, отмеченная словом «констелляция», возвращается к первоначальному, прямому значению. «Констелляция» – это не обязательно сочетание видимых светил, их расположение фиксируется не глазом и даже не телескопом. Пусть небо напрочь закрыто облаками, положение планет в любой момент известно и астроному, и астрологу.
Следовательно, речь идет не о взаимном расположении звезд, теней и акустически различимых звуков вблизи ночного водоема. Конкретная картинка ночи превращается в раздумье, в центре которого соотношение «жажды» и «воды» – субстанций, тесно связанных между собою через посредство человеческой эмоции, желания. Существует ли жажда без и до воды? Можно ли помыслить желание утолить жажду без наличия в сознании образа водной стихии? Здесь ясно различим один из центральных мотивов философской лирики Еремина – стремление заглянуть за грань появления слова (=акта творения), попытка прочувствовать и описать контуры чувства либо мысли еще до их вербализации.