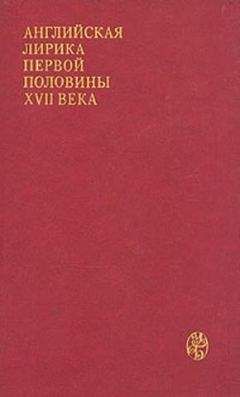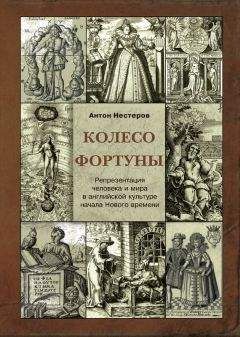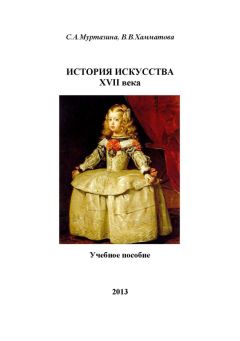Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Океан, облака и вода – реалии отсылающие к британским трудам и дням Олега Дозморова (см. раздел книги «Стихи, написанные в Уэльсе»), хотя, впрочем, фон офисного времяпрепровождения присутствует во всех главных локусах стихотворений Дозморова (Свердловск – Екатеринбург, Москва, Британия). Везде – одни и те же довольно-таки натужные попытки написать стихи именно сегодня, обозначить дату, да еще порою – посетовать на отсутствие малейшей свежести, оригинальности:
Июль. Двадцать второе. Не стихи?
В саду, как облака, раскрылись розы.
Всегда хотелось срифмовать «тихи».
Я знаю, знаю, все слова из прозы.
Да, руки коротки. А нужно – «коротки».
И тяжесть, тяжесть в голове чужая.
Да, облака, а нужно – «облаки».
Небесная, а нужно – «небесная».
Подобными сетованиями, повторяемыми настойчиво и неотвратимо, размываются возможные продуктивные различия между переживаниями офисного персонажа и стороннего наблюдателя, который, казалось бы, мог делать далеко идущие обобщения о метаморфозах современной поэзии, выросшей на асфальтовых тропах больших городов. Обобщенные суждения невозможны, поскольку дело сведено именно к узкому «планктонному» кругозору «белого воротничка»:
Приветствую. Уже часов с пяти-шести
ужасно тянет спать и ужинать охота.
И хочется уйти, но с этим не шути –
ты помнишь, как тебе нужна эта работа.
Одиннадцатича-совой рабочий день
ознаменован пе-рерывом, как цезурой.
Напротив желтый дом плечом уходит в тень,
другой – выходит из трагической фигурой.
Возвышенная злость, лирическая спесь!
Вы не должны смущать чистюлю-привереду.
И Ходасевич был уже. Точнее, есть.
Лет через пятьдесят отпразднуем победу.
Ну а пока в Москву выходит гражданин
из офисного дна и движется понуро
вперед по Моховой, пожизненно один,
и тень его длинна, как ты, литература.
При таких настойчивых и обильных указаниях на неблагоприятные производственные обстоятельства, сопутствующие написанию стихов, исчезает даже спасительная самирония, остается только почти ритуальное указание на время и место рутинного ежедневного труда:
Словно Пьер, понабравшийся мудрости у народа,
шепча «Что вы можете сделать с моей душой?»,
отыскивая в облаках существительное «свобода»
и не находя, топать по Моховой
мимо «Националя», мимо филфака, мимо
марбургского студента, слепившего те стишки,
после которых три века неумолимо
за нами водятся силлабо-тонические грешки,
мимо лучшего в мире Зоологического музея,
где среди всяких тварей в систематизированном раю
на картине маслом сидит ученик Линнея
и смотрит печально на разрезанную змею,
шествовать словно твой протопоп Аввакум
туда, где стоит только, переделывая дела,
допустить промашку – образовывается вакуум
вокруг твоего офисного стола.
Вакуум вокруг офисного стола – точнее не сказать невозможно, как невозможно и усмотреть в условиях противостояния офисного дела и поэтического слова основания для оправдания собственной поэтической манеры. Напрасны попытки обозначить стихи Дозморова как некую городскую «поэзию ежедневного быта», основанную на сознательном смирении и благородном самоумалении стихотворца, следующего традиции в пору невозможности ее соблюдения. Подтверждения этой позиции присутствуют в стихах Олега Дозморова довольно редко – вот одно из них:
«…учиться реагировать на мир
словесным образом. Не попросту словесным,
а строго в рифму, соблюдать размер,
предписанный столетьями традиций.
Не правда ли, меж жребиев других
великая, прославленная участь?»
Гораздо важнее однако иные авторские декларации, прямо говорящие о натужности, а вовсе не о жертвенной добровольной скованности его манеры, об отсутствии интереса к жизни и стихописанию. И все это говорится часто, прямо и без прикрас:
Нет интереса? Сочиняй,
воспринимай себя буквально,
метафорой пренебрегай,
все прочее не гениально.
Учись и стань совсем другим,
чужим, ненужным и безвестным,
как эти тучи – серым в дым.
Естественным, неинтересным…
Невидимые миру слезы офисного отшельника, безуспешно старающегося сочинять строго в рифму, не становятся эстетически значимым фактом современного существования, замыкаются в узком мирке носителя стандартных производственных эмоций:
Я книг не читаю, стихов не пишу,
почтительно важное тело ношу
с работы домой и опять на работу,
и если замечу, увижу хоть ноту,
ее не расслышу, но после, потом,
когда прихожу в твердокаменный дом,
в котором живу, я ее вспоминаю,
пытаюсь продолжить и плачу, страдаю
и милому карандашу говорю:
я верен тебе, я, как прежде, горю,
одиннадцать строчек тебе посвящаю.
Дело заходит еще дальше: поглощающие такого человека эмоции бессилия и обиды проецируются на весь окружающий мир, в кривом зеркале преображают его, превращают в нечто похожее на цитату из болезненных рассуждений героев «Записок сумасшедшего» либо «Записок из подполья»:
Я не думал, что будет так,
мне казалось, что будет хуже.
Блок выходит в кромешный мрак,
Мандельштам никому не нужен.
По программе одно кино
и какой-то футбол на ужин.
Блок старательно пьет вино,
Мандельштам никому не нужен.
Можно даже «Каренину», но
лучше уж домусолить Пруста.
Блок старательно пьет вино,
Мандельштаму смешно и грустно.
Ни жены, ни подруги нет,
за окошком смердит погода –
и нисходит небесный свет:
одиночество и свобода.
Удастся ли Олегу Дозморову выбраться за пределы привычного на протяжении многих лет закрытого перечня эмоций и мотивов? Хочется надеяться на лучшее, пока же вполне сохраняет силу стихотворный манифест начала 2000-х:
Я закрываю магазин стихов,
и открываю магазин несчастий,
зла, общечеловеческих грехов
и прочего по этой части.
Я покупаю старые долги,
храню несовершенные победы,
и если я торгаш, то помоги
моей торговле, приноси мне беды
и бедствия. Ну а потом беги.
Восьмистишия // Звезда. 2001. № 12.
Посеверней и победней // Арион. 2002. № 2.
Восьмистишия // Звезда. 2002. № 12.
голоса // Арион. 2003. № 3.
Отблеск // Знамя. 2003. № 5.
[Стихи] // Уральская новь. 2003. № 16.
Восьмистишия. Екатеринбург: Т.Е.П.Л.О., 2004.
голоса // Арион. 2005. № 3.
Когда вода исчезнет из чернил… // Знамя. 2005. № 10.
[Стихотворение] // Арион. 2008. № 4.
«Подошел к самому себе…» и др. стихи // Волга. 2008. № 4(417).
Шотландия // Знамя. 2008. № 6.
Стихи // Звезда. 2008. № 8.
Ход облаков // Знамя. 2010. № 8.
«Кофе, бисквит, пирожок европейский…» и др. // Волга. 2010. № 9–10.
Перемен не предвидится // Новый мир. 2010. № 10.
Допустим, пейзаж // Арион. 2011. № 1.
Стихи, написанные в Уэльсе // Урал. 2011. № 7.
Казнь звуколюба // Знамя. 2012. № 2.
Смотреть на бегемота. М.: Воймега, 2012.
Так еще больнее // Арион. 2012. № 3.
Вечное «почти» // Новый мир. 2012. № 4.
Стихи // Звезда. 2012. № 9.
Другая правда… // Урал. 2012. № 10.
Аркадий Драгомощенко
или
«Мысль, предшествующая тому, чем она станет через мгновение…»
На протяжении многих лет (даже десятилетий) Аркадий Драгомощенко последовательнее многих «соседей» по убеждениям работает не просто на границах лирической субъективности (как, например, концептуалисты), но на водоразделах существования самого поэтического языка да, пожалуй, и языка как такового. Речь идет вовсе не о лексике, синтаксисе или коммуникативных свойствах поэтического высказывания (взгляды кубофутуристов и не только). Все разновидности зауми и прочих «языковых расширений» поэтического лексикона исходили из драматического представления о «недостаточности» традиционного языка как средства высказывания, а следовательно – из утопического намерения нащупать некий параллельный, исконный поэтический праязык, самовитое слово, не искаженное утилитарностью (предсмертный Гумилев: «Дурно пахнут мертвые слова»).
У Драгомощенко синдром острой языковой недостаточности отсутствует напрочь. Главное для поэта – не грамматические преобразования, но доказательства бытия грамматики как таковой. Ключевая формула Драгомощенко: «Грамматика не выдерживает немоты…» проста и прозрачна: нельзя рассуждать о языковой онтологии помимо высказывания, произнесения слов, следовательно, бытие языка нащупывает себя прямо в процессе говорения – помимо намерения автора, «произносителя» слов. Язык реализует себя независимо от воли поэта, параллелен субъекту высказывания, течет по самостоятельному руслу, поскольку при любой попытке речи немедленно выходит за собственные границы.