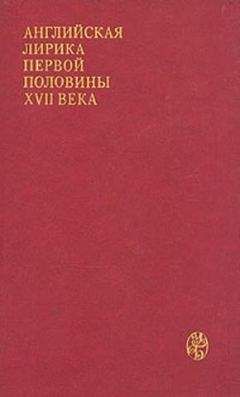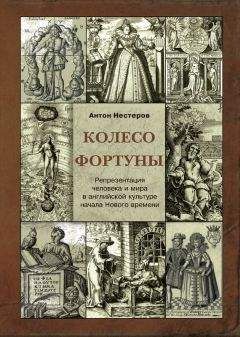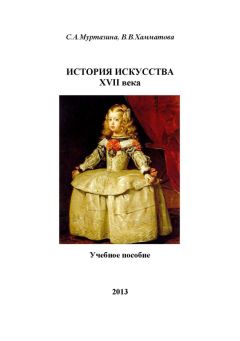Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Следовательно, речь идет не о взаимном расположении звезд, теней и акустически различимых звуков вблизи ночного водоема. Конкретная картинка ночи превращается в раздумье, в центре которого соотношение «жажды» и «воды» – субстанций, тесно связанных между собою через посредство человеческой эмоции, желания. Существует ли жажда без и до воды? Можно ли помыслить желание утолить жажду без наличия в сознании образа водной стихии? Здесь ясно различим один из центральных мотивов философской лирики Еремина – стремление заглянуть за грань появления слова (=акта творения), попытка прочувствовать и описать контуры чувства либо мысли еще до их вербализации.
Поэтический первоисточник подобных усилий очевиден: мотив забытого слова необыкновенно важен для иного стихотворца, написавшего, между прочим, самые знаменитые русские «Восьмистишия» двадцатого столетия, так же всматривавшегося в парадоксы наименования предметов и явлений («быть может, прежде губ уже родился шепот…» и так далее).
Если вернуться к процитированному стихотворению Михаила Еремина, то очевидно, что итоговое рассуждение о соотношении понятий жажды и воды также оказывается разомкнутым. Пусть «жажда» и не принадлежит к ряду специфически ереминских экзотических слов-терминов, но его значение в финале тоже стремительно преобразуется, расширяется, подобно кругам, расходящимся по поверхности воды, тронутой губами пьющего. Речь не только о физиологической жажде, но и о неутолимом ментальном стремлении соприкоснуться с неведомым, пусть неясным и «мутным» (пруд, заросший элодеей). Так любой конкретный пейзаж преображается в логически стройную и строгую цепь рассуждений.
И это еще сравнительно простой случай! Ведь у Еремина есть стихотворения, где отсутствует даже намек на зримую очевидность внешнего мира:
А если и тщиться
Проникнуть во глубь
И выспрь
Тернарного – недра, окрест
И вечное горнее – мира,
То при пересчете небесных светил, адиафор и дыр
Не остановиться ли на предпоследнем
Числе натурального ряда?
Вопреки непростоте умственных построений, поэт проводит раздумье читателя по строжайше определенному маршруту. Игра значениями в конечном итоге не размывает контуры определенности, но ведет к непреложному результату. Грамматические усложнения (например, заключение в скобки целых периодов) только усиливают у всякого читателя, привыкшего разбирать интеллектуальные ребусы Еремина, острое ощущение парадокса. Поддаваясь логике его стихотворных силлогизмов, мы обнаруживаем в себе новую способность – подобно автору, на равных правах непосредственно ощущать впечатления не только от восприятия зримого, но и от созерцания феноменов, доступных лишь внутреннему, умственному зрению.
Вот, казалось бы, одно из самых очевидных поначалу восьмистиший, в котором речь идет о незабвенных временах бытования неофициальной, неподцензурной литературы и жизни на задворках навязшей в зубах тоталитарной ортодоксии:
Нет, не грустить о славных временах
Народных пирожков с начинкой
Из ливера еретиков, – но, скажем, примерять личины
(Напялил, словно маску, кости таза,
Изящно позвоночник изогнул –
Подобно хоботу противогаза,
И стал неузнаваем вельзевул.) и
Беседовать о самоценности плацебо.
Никакого подобия «пейзажа» здесь нет и в помине, но бесспорный логический ход (недопустимо грустить о временах застойного обилия и стабильности, поскольку то и другое было результатом насилия – пирожки начинены выеденной печенью еретиков) предельно усложняется. Что можно противопоставить ностальгии по советской фальшивой идиллии? Ответ далеко не очевиден. Cмирение? любовь к тяготам настоящего? Несвобода, если задуматься, гораздо легче и определеннее свободы (здесь, на прокуренных кухнях – «мы», «свои», а «они» – там, в их кабинетах и прочих местах обитания лжи и фальши). Да, было именно так, но если эта ясность и определенность утрачены, то опасность примерять вельзевуловы личины только усиливается, остается вместо лечения принимать плацебо – «пустые» таблетки, лишь имитирующие терапевтический эффект. Получается, что «грустить о славных временах» советского застоя – означает мечтать вовсе не о дешевых пирожках, но о временах неотчужденной убежденности в своей правоте, подлинности дружб и враждебных столкновений. В пору бесхребетных компромиссов тотальной имитации всех добродетелей, когда эпидемия лицедейства захлестнула все вокруг, устроит ли тех, кто помнит времена иные, суррогатное лечение пороков сладенькими пустышками-плацебо?
Михаил Еремин на протяжении десятилетий не меняет голоса, его восьмистишия выстраиваются в единую цепь размышлений о материях важнейших и насущных. Но усложненность речи уже не выглядит защитой от навязчивой простоты подцензурной поэзии позднесоветской эпохи. Времена сменились, и стихи Еремина в новом контексте звучат с прежней (и одновременно новой) силой. Они по-прежнему адресованы не всем, но чем больше читателей начала столетия расслышат негромкий голос петербуржца Михаила Еремина, тем будет лучше – и для внимательных читателей, да и для судеб наступившего века тоже.
БиблиографияСтихотворения. Кн. 2. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. 56 с.
Стихи // Звезда. 2002. № 7.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2002. № 227.
«Считать ли происками заастральных сил…» // НЛО. № 62.
Поэтическая тетрадь // Новый журнал. 2003. № 231.
Литература // Критическая масса. 2004. № 2.
Стихотворения. Кн. 3. СПб.: Пушкинский фонд, 2005. 52 с.
Стихотворения. Кн. 4. СПб.: Пушкинский фонд, 2009. 48 с.
Стихи разных лет // Дети Ра. 2009. № 3(53).
Стихи // Звезда. 2010. № 4.
Стихи // Звезда. 2011. № 6.
Стихотворения. Кн. 5. СПб.: Пушкинский фонд, 2013. 48 с.
Ирина Ермакова
или
«Я всю жизнь держалась на честном слове…»
И правда – все зависит от ракурса, от угла зрения, еще точнее – просто от природы зрения как оптического прибора, позволяющего разным тварям видеть волны разной длины. Что человеку многоцветно, то для кошки черно да бело, а насекомому – объемно да фасеточно… С оптикой у Ирины Ермаковой неразрывно связаны и акустика, да и семантика наблюдаемого мира – спелого, упругого, налитого гармонией и статикой состоятельности и достаточности жизни. Как бы сказать попроще, не впадая в ухоженную стилистику самой Ермаковой? Ну, в общем, и не подумаешь, что она живет и придумывает слова в том же городе и в том же столетии на дворе, что и новые социальные поэты, прекрасные и честные, видящие кругом разруху и непоправимые несчастья, для коих есть свои причины: на них необходимо указать, чтобы преодолеть. Нет, у Ермаковой в стихах сколько угодно пораженных в правах людей, не имеющих, как сказал бы публицист, доступа к социальным лифтам:
– И-и-и!
Людина Оля,
Олька-дьяволенок
визжит,
визжит,
визжит,
нарезая квадратные круги по двору:
– И-и-и! –
и железная скамейка у подъезда
взрывается,
сокрушенно причитая:
– Люд, чёй-то она? Ой, люди! Ишь, монстра какая! Дитё
все-таки… Людмила, ты б ее в садик сдала!
– Не берут – Оля! Оля! Оля!
Горе мое, до-омой!
……………..
– Не берут,
она ж – не говорит,
шестой годик пошел – не говорит,
все понимает, сучка, – и не говорит.
– И-и-и! – визжит всё –
дерево, тротуар, сугробы, голуби, стекла дома,
напряженно-багровые
от солнца.
– Сладу, сладу с ней нет,
спать без пива – не уложишь,
высосет свою чашку – и отрубается.
– И-и-и! –
и пожилая наша скамейка
поеживается
и поджимает ноги,
жалобно кивая головами:
– И-и-и, бедная Люда, на пиво-то-кажен-день – поди заработай.
Московская Йокнапатофа Ирины Ермаковой располагается где-то у сложной излучины реки, между Нагатинским затоном и Коломенским. Эти места изображены на обложке сборника «Улей»: карта столицы нашей родины цвета золотистого меда, со смещенным центром, в аккурат приходящимся на окрестности заповедного парка и автозавода-гиганта на другом берегу реки – полной тезки не верящего слезам города. Классическая заводская окраина: многоэтажки из малогабаритных квартир для бывшей лимиты на холмистой улице с поэтичным именем Высокая. Бывали, знаем, здесь есть где разгуляться несчастью:
А еще наш сосед Гога из 102-й,
Гога-йога-бум, как дразнятся злые дети.
В год уронен был, бубумкнулся головой,
и теперь он – Йога, хоть больше похож на йети.
Абсолютно счастливый, как на работу с утра,
принимая парад подъезда в любую погоду,
он стоит в самом центре света, земли, двора
и глядит на дверь, привинченный взглядом к коду…
Генерал кнопок, полный крыза, дебил –
если код заклинит – всем отворяет двери,
потому что с года-урона всех полюбил,
улыбается всем вот так и, как дурик, верит…
Счастье – это неведение о собственном горе, эта формула настолько пластична, что легко поддается инверсии: любое «ведение» непременно оборачивается ощущением неблагополучия, ментальным несчастьем, готовым перелиться в жизнь, притянуть, подобно магниту, горести не вымышленные, но всамделишные, выраженные в фактах и событиях. А юродивая неосведомленность так и остается кратчайшим путем к уверенности и спокойствию: