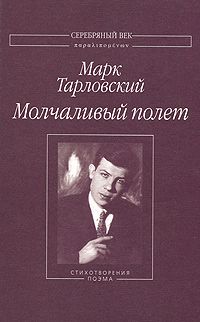Илья Эренбург - Избранное
331. «Однажды черт меня сподобил…»
Однажды черт меня сподобил:
Я жил в огромном небоскребе.
Скребутся мыши, им не снится,
Что есть луна над половицей.
Метались этажи в ознобе.
Я не был счастлив в небоскребе,
Я не кивал пролетной птице,
Я жил, как мышь под половицей.
Боюсь я слов больших и громких,
Куда тут «предки» и «потомки»,
Когда любой шальной мышонок,
Как сто веков, высок и громок.
В ознобе бьются линотипы,
Взлетают яростные скрипы.
И где уж догадаться мыши,
Что незачем скрестись на крыше?
332. «Умрет садовник, что сажает семя…»
Умрет садовник, что сажает семя,
И не увидит первого плода.
О, времени обманчивое бремя!
Недвижен воздух, замерла вода,
Роса, как слезы, связана с утратой,
Напоминает мумию кокон,
Под взглядом оживает камень статуй,
И ящерицы непостижен сон.
Фитиль уснет, когда иссякнет масло,
Ветра сотрут ступни горячий след.
Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.
ПОЭМЫ
333. ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ НЕКОЙ НАДЕНЬКИ И О ВЕЩИХ ЗНАМЕНИЯХ, ЯВЛЕННЫХ ЕЙ
И Дух и Невеста говорят — прииди!
и слышавший да скажет: прииди!
Откровение Иоанна БогословаТебе и вам,
ибо воистину
«любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится».
И. Э.В тысяча девятьсот шестнадцатом году,
Одержимый бесами в дивных ризах,
Пребывая в неком аду,
Именуемом бренной жизнью,
И постигнув: сроки настали! грядите, бури! —
Пресмыкаясь в мерзких грехах,
День-деньской плача и балагуря
В разных кабаках,
Я, Илья Эренбург,
Записал житие тихой женщины
И всё, что она опознала
Через великую печаль.
И я верую
В своем запустении,
Ибо может уверовать даже самая малая
Тварь.
Слава тебе, господи, слава!
Ходят по лужайке белые павы,
И караси дохлые по пруду плавают,
И в кабинете маленькие дьяволы,
И зубы у них болят,
И еще болят, и они скулят:
«Слава тебе, господи, слава!
Твое дело! Твое право!
Мы надули наши губки
Лукавые.
У нас болят —
Слава тебе, господи, слава! —
Зубки!»
Сидит банкир, и бумажки милые —
Стрекозиные крылышки.
Пить только хочется…
Да вот ночью
Не достать нарзана…
А простой опасно…
И слышит он, как внутри ходят тараканы,
Усиками ходят очень ласково.
Откуда их столько нашло?.. Из кухни?..
И что-то внутри явственно бухнет…
И кричит он: «Помогите!..
Кондрашка…
Ты смотри!.. Бумажки,
Все пересчитанные…»
В доме у Цветного бульвара
Лежит на ковре так — одна барышня…
«Ты не лезь!.. Я сегодня больная!..»
И всё как при этом полагается…
И торчат две ноги у туши,
А он облюбовывает, будто кушает,
И гремят сальные гири…
…Рублик накину на вырезку,
Только много сала…
Что ж ты, барышня, не гуляла?..
Теперь лишнее не ценится…
И кричит барышня: «Не при!
Пусти на минутку в сени,
А то очень жжет внутри…»
А на липкой бумаге
В столовой
У архитектора Иванова
Муха жужжит,
Муха.
В столовой весьма сухо —
Духовое отопление.
Жужжит муха, на одной лапке
Всё время:
«Да как же, лапки не нитки,
Плохо!
Бумажка липкая,
А всё пересохло…
Je, J’ai…[4]
Неужели уже?..»
А в аквариуме золотые рыбки
Пузыри пускают и плавают.
Слава тебе, господи, слава!
Ты поил нас пьяным вином,
А у нас свои печали.
«И представьте, не был застрахован дом,
А всего за три дня перед этим предлагали».
— «И вы не застраховали?»
Ты поил нас седьмым потом,
Мы бай-бай… «Ах!
Устал что-то…
Не целуй! Завтра утром…»
И впотьмах
Хрип, хлип, храп.
Вот он — твой нерадивый раб!
Ты поил нас слезными слезами,
Мы танцуем — не на каблуках, на носках.
«И знаете, если мне не изменяет память,
Никто до нее не пробовал этого па…»
Ты поил нас кровной кровью,
А мы свои губки, свои зубки, дырочки,
пупырочки холили.
«Новый вечер готовим,
В пользу…
Ультра-лучизм, светопоэзы, теософия,
И потом из жизни мученика любопытные
танцы».
— «Да, стоит пойти… Не хотите ли с кофе
Рюмочку голландского?..»
И тогда, возлюбив нас много
И познав земные вечера,
Ты дал нам холодную воду
Из копьем пронзенного ребра.
Вам кричу — пора! пора!
Толстые, тощие,
Нищие,
Выходите на площади голыми!
Не стыдитесь волосиков или прыщика —
Через плоть уж прошел Он.
Глядите сквозь пенсне, сквозь монокли
На эти выси высокие,
На гневный ход
Того, кто грядет!
Гряди,
Явный!
Ибо все воды в твоей груди
Правых и неправых.
Слава тебе, господи, слава!
Вся правда твоя иссякла,
Иссякла вещая речь.
И нет слез, чтоб ныне плакать,
И крови нет, чтоб ею истечь.
И только в тебе для неистовых Савлов
Черный огнь и живая вода!
Гряди! Пришли последние года!
Слава тебе, господи, слава!
Когда Наденька кончила прогимназию,
Был большой праздник.
Маменька вынула чайный сервиз с розанами
(чего лучше),
Халвы купила и тянучек.
А Наденька купила себе корсет с голубыми
лентами.
Ишь!
Уж совсем, совсем Париж!
Некоторые неповторяемые комплименты…
«На тебя, Наденька, одна надежда…
Вот, может, заживу, как прежде…
Замучилась твоя мама…
Как бы ты поскорее того… замуж.
А то умру — ты не пристроена…
И всё такое…»
Маме —
«Я поеду на бал в офицерском собрании!..»
— «Ну, веселись, детка!
Приедешь, верно, голодная — я тебе оставлю
котлету…»
Бал в «Кукушке»,
И у душки
Веснушки.
А он влюблен,
И «шакон».
«В этом мире…»
— Ла-ра-ри-ре… —
«Изнывая…»
— Ла-ри-рая… —
А после повторял одно грустное,
Это древнее «люблю».
Где-то канарейка отвечала, почти что
по-французски:
«Лью-ю-ю!»
И было в этих «л» столько ливней ясных,
Столько еще не выплаканных слез…
И знала Надя — от этого часа
Не уйдешь…
Раскрасневшись от танцев,
Уже полюбившая, уже нелюбимая,
Она молилась с бокалом шампанского:
«Господи, пронеси эту чашу мимо!»
И напрасно в Божениновском переулке
Мама ждала до рассвета,
И напрасно в столовой стыла котлета…
Над своими птенцами, Рахиль, плачь!
Шибко, шибко несется лихач.
Кто-то сказал: «А, Иван Ильич, вы с
дамочкой».
И странно…
«Боярское подворье и гостиница Кастилия».
Где мы жили? Где мы были?
И молились?
И зачем?
Комнату… 47…
Вот она, любовная мука,
И в той же губке тот же уксус,
И тусклая свечка, и портьеры, и «любишь?»,
И где-то маятник,
И нищий, который отдает свои рубища,
Почти что улыбаясь.
На заре подошла Надя к окну,
Видит — пустая площадь,
Едет только извощик,
И сидит в пролетке голая баба,
И кушает виноград она,
И кричит извощику: «Поезжай живей!
Дам сотню!
Хочу въехать в рай в собственной плоти!»
И выбегают хорьки
И грызут пальцы на ногах бабы,
И воет баба от смертной тоски,
И радуется.
А извощик на козлах поет про то и про это,
Про Иосифа Благолепного,
Про сорок дней в пустыне, про легкое иго,
И как хорошо бы себя постегать вожжами,
И как он, Иван, юбки закидывал,
И как мылся в бане.
А хорьки подпевают: «Слава тебе, любовь,
Хлеб наш насущный!
Слава тебе, искушенная плоть!
Пуще! Пуще!
Вот, вот,
За коготок.
Ах, Амур
Любит педикюр!..»
Надя пала у окна белого,
Где-то половой гремел щеткой…
И не знала она, что претерпела
И сколько ей еще терпеть остается.
Только сырое небо и крыши,
И с улицы звуки всё чаще,
И в комнате легкое дуновение слышно
Другого, спящего…
«Ведь как же, Наденька… я не в укор,
ты понимаешь.
Но Петр Ефимович согласен, он теперь всё знает…»
И как поздравляли, и как целовали,
И после венчанья эти четверть часа на вокзале.
«Ну, по любви едва ли…»
«Вы хорошо будете спать в купе…»
«Спать?.. э-э!..»
«Без пересадки».
«Надя, ты забыла свои перчатки…»
И мама ее целовала неловко, зачем-то в ухо,
И глаза у нее были припухшие…
Кто-то крикнул, свистнул жалостно…
И не стало вот…
«Наденька,
Какая ты гладенькая!
И теперь все эти штучки мои…
И-и-и-и…»
Вспомнила Надя, как девочкой говорила маме:
«Не хочу играть с Саней!
Когда вырасту большая, выйду замуж
И буду дама».
И как мать бормотала: «Играй, играй, детка!»
И как она улыбалась жалостливо, редко…
А муж: «У тебя совсем миленький профиль…
Ты со мной не скучаешь?.. В Смоленске будем
пить кофе».
Надя вышла в коридор… Путь так долог…
Едут с ними тысячи проволок
И поют: «Подойди! Отойди!
Мы позади, и мы впереди!»
Взмолилась Надя: «За что ты?
Я не умею иначе, вот я…»
Подошел тогда господин в цилиндре:
«Простите, позвольте представиться — Кики.
Вы никогда не бывали в Индии?..
А там есть прелестные уголки…»
Пошли от господина лучи неистовые,
И совсем он, совсем близко.
И сказал ей еще: «Я тебе не простил
Моей обиды,
Иакова я возлюбил,
Исава я возненавидел…
Ибо ты преступила запреты,
И неугодна жертва твоя, —
Иду на человека
Я».
Муж всё хныкал: «Еще немножко!..
Ты устала, моя кошечка?»
И был поезда грохот:
«За что ты? за что ты?
За то и за это…
Моя и твоя…
Иду на человека
Я…»
Была такая милая,
И кто знает, как это случилось…
Создал двух равных
И одного возненавидел.
Господи, тебе слава,
Ты возненавидел
Исава.
Господи, тебе слава!
Твое дело! твое право!
Еще утром гуляла,
Прибежала: «Мама, я не баловалась,
Глядела папину лошадь…
И, знаешь, у серой кошки…»
— «Ты у меня умница, Глаша».
И снег на гамашах…
Страшно взглянуть на градусник…
Надо…
Да вот взглянуть —
И красной змейкой подымается ртуть.
Старый профессор, видавший много,
Много Марий у крестов,
Оправил очки, сказал: «Надейтесь на бога!»
Он знал, что значит плакать,
На маленький коврик пав,
Что есть у бога не только Иаков,
Но Исав.
«Уру-уру-ру.
Кто это ходит по ковру?
Это окотилась кошка серая,
И котята бегают.
Кто это ходит по ковру?
Кто это скачет?
Уру-уру-ру.
Мама, отчего ты плачешь?
Разве я умру?
Уру-ру».
И кукла-арапка, и вот эта песня,
И длинная шейка в компрессе,
И как задыхался птенчик,
И как светать стало,
И как подымалось всё меньше и меньше
Тоненькое одеяло…
Малые дети пели о болестях мира,
Обличая лик далекого отца:
«И рабу твою Глафиру…»
Было ясное утро.
Легкие дымы от спящих домов исходили.
По первопутку
Живые еще спешили.
Шли приготовишки, неся в больших ранцах
Тягу свою — единицы и «ѣ»,
Спеша, чтоб к жизни далекой и странной
Не опоздать.
Только на пальцах, запятнанных чернилом,
Мелькали редкие снежинки,
Тая…
А Глашу ждала могила
В это утро зимнее.
Когда жизнь только начинается…
Шли еще большие гимназистки,
Оглядываясь часто,
Пряча рук своих неуклюжих кисти,
Особенно ласковые…
Оглядывались они, будто кто-то их окликал,
Сжимали уже ненужные тетрадки…
(Завтра бал,
До локтей первые перчатки…)
Шагал поп в рясе,
И над папертью церкви черт Афанасий,
С перешибленным носом,
Нюхал — пахло воском.
Поп перекрестился:
«Да запретит тебе господь!»
А дроги всё так же важно и уныло
Раскачивали мертвую плоть.
Когда уходили с кладбища,
Подошел к Надежде нищий,
Но ничего не попросил, так только хныкнул:
«У тебя, жена, скорбь великая!..
…И когда вели меня на горку малую,
Носилась моя матушка, как ласточка,
И убивалась она,
И глядела, как били меня и мучали,
И ходила ко всем, и просила, и плакала,
И знала она мои перебитые рученьки,
И на груди знала каждое пятнышко,
И всё видала, как лежу я на соломе
И дрыгаю ножками,
И как в церковь меня вела,
И как играл я, сам я не помню,
И стало ей от всего очень тошно…»
И Надежде стало жаль нищего,
За ограду они вышли,
И сели, и друг друга обнимали, сирые,
И играли с чурбаном,
Говорил нищий: «Вот твоя дочь Глафира!»
И чурбан говорил: «Как есть моя мама!»
И муж ушел, и все ушли,
И солнце померкло средь мерзлой земли,
А они всё друг друга жалели и жалели,
И грустно пах на снегу раскиданный ельник…
Надежда Сергеевна кладет пасьянс в столовой.
Вот и это…
Даму на валета,
Тройка трефовая…
Самовар заглох.
И, кажется, от канители
Всё заглохло в этом маленьком желтом теле,
Разве остался так только — вздох.
«Барыня, ничего не надо вам?..»
И всё раскладывает…
Двойку на туза…
Где это?..
«Лара-рире,
В этом мире…»
И как исчез зал,
И как он сказал:
«У вас в колечке красивая бирюза».
И она ответила, краснея.
«Она похожа… у вас такие глаза…»
И подумала: «Господи, как я говорю так пошло?..»
Он засмеялся: «Едва ли!..
Разве бывают такие глаза?..»
И как потом испугалась своей тени лошадь,
У Тверской, на асфальте…
Да двойку на туза…
А Глаша говорила: «Звезды это глаза,
Только почему у бога так много глазок?
А я знаю почему! Он смотрит сразу
Много-много…
Ты хочешь, мама, чтоб у тебя были такие глаза?»
Двойку на туза…
Плакала Надежда Сергеевна: «Вот смешаю
Бубна-пики все вместе».
Измывался маятник:
«Бубны, пики.
Огнь и дым.
Съел черники,
Стал святым.
На могиле
Он и черт
Поделили
Вкусный торт.
Не смешаешь,
Дорогая!
Ах, яичко у него для всякого —
Ему слава!
И одно яичко для Иакова,
А другое для Исава».
Надежда Сергеевна плакала тихо, долго,
Зачем-то платочек свертывала и развертывала.
А потом кинулась к иконе Спаса, закричала
По-петушиному бойко:
«Всё вижу я!..
Вот что — злой ты!..
Как тебя ненавижу!..»
Нет больше столовой. Стоит пред Надеждой
инок.
Небо крестом, будто землю, роет.
Говорит: «Воистину ты удостоилась.
Женщина, великая сила
В твоей тоске, в твоей обиде,
Ибо ты не усомнилась,
Но возненавидела!»
Видит Надежда, как орел когтит детище лани,
И лань стоит, а орел от любви плачет жаркими
слезами,
И голубь летит, и несет он меч в клюве,
И, сам подстреленный, плещет крылами в испуге.
И ждут они, и прилетает третия птица,
Что крыльями мир застилает и в малом сердце
гнездится.
И видит еще Надежда большой город,
И старая сука, и кровь у нее бьет из горла,
И паршивая, и сосцы тащатся по мостовой,
И — страшный идет вой,
И сидят рабочие, и куют железо,
И кушают омара с майонезом,
И говорят: «Хорошо, черт возьми, на свете!»
И черт показывает на провода телеграфные,
И на провода нанизаны подколотые дети,
И смеется черт: «Барышня, возьми три рубля
на булавки».
И господин играет на контрабасе,
И все хотят кинуться в похоти друг на друга,
И на беду все закованы в железные брюки и
платья,
И топчутся на одном месте от сильного блуда,
И у баб некормившие груди запаяны,
И пахари с гнилым зерном зря по улицам
шляются,
И все подкатывают пушки занятные,
И пушки те как маленькие пульверизаторы,
И всем пострелять очень хочется,
Так что убивают друг друга по очереди.
И кричит кто-то в лавке: «Бархат хороший!
Распродажа!
Ибо последние исполнились сроки!»
Кричит и свое непотребное кажет.
И еще видит Надежда — приходит Кормилица,
Говорит: «Уморились вы?
Двадцать веков была я Невестой,
А теперь кому — Жена, вам — Мать».
И приползают гадюки из леса
Молоко парное сосать.
Припадают к груди и прыгают
Мокрые подкидыши.
А в ресторане задремавший старичок
Кричит: «Эй, человек, счет!
На сегодня будет…
Что там? Последний суд?
Не могу — меня к ужину ждут…»
И, увидя Мать, цепляется за полные груди.
Молвит Мать: «Вкусите млека!
Ныне не бьется человечье сердце,
Ибо весь трепет от начала света
Приняла я — Мирская Церковь.
Тот, кто вас любя ненавидел,
Кто только вами и жил,
Кто сам носил земные вериги
И даже славу вашу носил, —
Он дал моим грудям набухнуть,
Он ваши губы сделал сухими.
Пейте! Ибо царствие святого духа
Ныне!»
Слышала Надежда, радовалась, пред
иконой стоя:
Вот и он, и Глаша, и я — все удостоимся…
И как шумела рожь недожатая…
И как старая женщина одна плакала…
И как у Спаса смуглые рученьки…
И как мудро всё и к лучшему…
И приоденусь почище, умру…
И правые просветятся и неправые…
И вот, значит, он любит Исава…
И легко дышать поутру…
И слава тебе, господи, воистину
СЛАВА!
2—29 января 1916