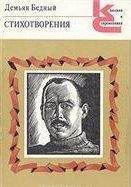Демьян Бедный - Том 4. Стихотворения 1930-1940
Привет растущей силе*
Текст к колхозно-женскому плакату ИЗОГИЗа.Про «бабу» злые прибаутки
У нас уж больше не в ходу.
Про «бабу» старые погудки
С культурой новой не в ладу.
Цена такому балагурью –
Антисоветская цена.
Мы распростились с этой дурью
Бесповоротно и сполна.
Поставив крест на мире старом,
Верша великие труды,
Колхозной женщиной недаром
Мы так восторженно горды.
Ее житейская дорога
Уж не «от печки до порога»,
Пред нею новый, светлый путь
Туда, где легче дышит грудь,
Где неоглядные просторы,
Где жизни радостной узоры
И краски творческой весны
Уже отчетливо ясны.
Колхозный съезд второй недавно
Нам показал ее так явно,
Так полноценно: вот она,
Возбуждена, увлечена
Докладом, яркими речами,
Чувств неиспытанных полна,
Завороженными очами,
Не отрывая их, глядит
Туда, где Сталин сам сидит.
И вот – она уж на трибуне,
И ей – да, ей! Петровой Дуне! –
Все рукоплещут. Сталин тож.
Он рукоплещет всех сильнее.
Он – стало ей теперь виднее, –
Как на портреты ни похож, –
Вблизи он проще и роднее.
Все надо в памяти сберечь,
Чтоб вспомнить над колхозной пашней,
Как Сталин жадно слушал речь
Ее, телятницы вчерашней.
Она – еще не грамотей –
Телят любила, как детей,
Потом – ударничала в поле,
Не только в поле, но и в школе,
Чтоб, поработавши, «как черт»,
Стать полеводом первый сорт.
Сдала здоровьем даже малость,
Но всю болезнь – верней, усталость –
Сняла награда: Крым, курорт…
Теперь придут весна и лето,
И вновь здорова и сильна…
Конечно, Сталин знает это!
Он знает, знает, кто она!
Но также знает он заочно
– С ним вместе знает вся страна! –
И уважает имена
И подвиги таких же точно
Колхозниц славных, как она.
Они лавиной мощной, бурной
К той жизни ринулись культурной,
Которой в мире краше нет.
Родной колхозно-деревенской
Растущей новой силе женской
Наш братский, пламенный привет!
При советской власти сталося, о чем прежде в сказках мечталося*
Мужик из века в век пыхтел-кряхтел над сошкой,
А дармоедов – каждый с ложкой –
За ним тянулось – целый фронт:
«Ты – наш кормилец!»
«Ты – наш поилец!»
«Ты – раб наш вечный, Ферапонт!»
Сам Ферапонт голодный,
Холодный,
Порою темною, ночной,
Измученный дневной работой и заботой,
Усталый и больной,
Страдая костяной
Ломотой,
Окутан темнотой, лежал в своей избе,
В своей безрадостной темнице,
И в темноте мечтал о солнечной судьбе,
О сказочной жар-птице:
«Хотя бы перышко мне от нее достать,
Чтоб у меня в избе оно могло блистать!»
А нынче – погляди на этой вот странице! –
Колхозник скажет ли: «Я в темноте живу»?
В колхозной электросветлице
Крестьянская мечта о сказочной жар-птице
Осуществилась наяву!
Дыряво-лапотный крестьянин, бессапожный
И невылазно-бездорожный,
Всю жизнь он маялся, как каторжник острожный,
В своей отрезанной от мира конуре
И, глядя на возок, застрянувший в болоте,
Мечтал о сказочном _ковре,
О самолете_.
Теперь колхозники строчат письмо в Москву:
«Когда ж обещанный нам самолет пришлете?»
Вдруг гул. В небесную все смотрят синеву.
Аэропланов там – собьешься прямо в счете.
Крестьянская мечта о чудо-самолете
Осуществилась наяву!
Голодный мужичок с голодною женой
Век проводили свой в голодной перебранке,
И утешалися они мечтой одной,
Мечтой о скатерти – волшебной самобранке
Ей прикажи, и все – еда любая – есть.
Хоть в сказке досыта поесть!
Колхозник говорит: «Не лодырем слыву!
Зато живу теперь уж не в былом хлеву,
И ем зато теперь не отруби в лоханке!»
Крестьянская мечта о дивной самобранке:
Осуществилася в колхозах наяву!
Бранили баре мужика
Площадно,
Пороли баре мужика
Нещадно.
Трещали исстари, века,
У мужика
Бока.
Мужик, житье свое чтоб скрасить горевое,
Мечтал о сказочной дубинке-самобое:
«Всем, всем, кто тянется к мужицким пирогам,
Царям, помещикам, несытым всем врагам,
Утробы чьи страда крестьянская кормила,
Она б хребты переломила!»
А нынче – дальний враг и здешний,
Вредитель внутренний и поджигатель внешний,
Пришипившийся пан, фашистский ли Мамай –
Остерегись! Нас не замай!
Не зря мы празднуем рабочий «Перво-май»,
Наш общетрудовой всемирный праздник вешний!
Покорно мы ль согнем перед врагом главу?
Притронься не к руке нам враг, а к рукаву,
Так приключится с ним такое!..
На нападение ответим мы любое,
Любую выжжем мы зловредную траву!
Мечта о сказочной дубинке-самобое,
Вот – воплощенная – пред нами наяву!
Радзивилловский «краковяк»*
Пышный зал – картина в рамке.
Шпоры звонко звяк да звяк.
С толстой Бертой в старом замке
Князь танцует краковяк.
– Моя краля! – О мейн Януш,
Ире зеле…[5] – Ваша вся!
– Варлихь?[6] – Езус! Ведь не спьяну ж
Вам в любви я поклялся.
– О мейн фирст! Мейн тапфер риттер![7]
Не коснется, Радзивилл,
Большевистишес гевиттер[8]
Ваших замков, ваших вилл!
– Вы устали? – Нет. – Пше праше,
Еще, фрейлен, еден тур!
Нима в свете выше, краше
Наших родственных культур.
– На востоке вир цузаммен…[9]
– Скоро ль? – Шнель![10] – Когда б скорей!
– Клятва? – Клятва! – Амен? – Амен!
– Дритта, дрит-та! – Эйнс, цвей, дрей!
– Мы покажем красной хамке:
Нет таких, как мы, вояк! –
…С толстой Бертой в старом замке
Князь танцует краковяк.
Вьется князь вокруг соседки,
Ей отдавши сердце в плен,
Радзивилловские предки
Смотрят сумрачно со стен,
Словно им подать охота
Знак потомку своему,
Словно ведомо им что-то,
Что не ведомо ему,
Что нависло над вельможей
И о чем – и у ворот,
И вкруг замка, и в прихожей –
Шепчет сумрачный народ.
О «доброте»*
Над губами ладонь или платок.
Обывательский шепоток
О большевистской морали
(Тема приобрела остроту):
«За что человека покарали?
За доброту!»
Доброта! Распрекрасное слово,
Но приглядимся к нему.
Скажем, я прослыл за человека презлого
А почему?
Будь я урчащим
Лириком,
А не рычащим
Сатириком,
Разводи в стихах турусы на колесах
О тихих заводях и плесах,
О ловле по утрам пескарей,
О соловье иль кукушке в роще,
Не было б меня добрей
И – проще.
Есть пограничная черта,
Где качество переходит в контркачество,
Отвага – в лихачество,
Деловитость – в делячество,
Краснота в иные цвета,
Бережливость – в скупость,
И доброта –
В глупость,
А глупость – в преступление.
Обычное явление!
Глупая доброта становится той
Простотой,
Про которую и в мире старом,
Чуть не до «Христова рождества»,
Утверждалось недаром,
Что «простота хуже воровства».
Что от нее в мозгах чересполосица,
От которой «добряк» простоволосится,
Доходит до дружбы и кумовства
С перекрашенным, переодетым
Врагом отпетым.
Доброте доброта
Не чета.
Бывает доброта разная:
Умная и несуразная,
Пролетарски-классово направленная
И – вражьей отравой отравленная,
Захваленная и заласканная,
Опошленная и затасканная,
Дряблая, насквозь обывательская,
А в результате – предательская.
Не удержись от такого соблазна я,
Поперла б ко мне публика разная,
Началось бы хождение массовое,
Чуждо-классовое.
Про меня б говорили, что я-де во лбу
Семи пядей,
Называли б меня в похвальбу
«Добрым дядей»,
Говорили б, что только лишь мне
«Довериться можно вполне»,
Что я к сердцу их боль принимаю,
Что я их «понимаю».
Я ж басил бы: «Да, да, случай жуткий!
Да, да, самодурный!»
Ведь я такой «чуткий»,
Такой я «культу-у-ур-ный».
«Ах, Ефим Алексеич! Вы – писатель, творец…
Вы поймете… Был графом отец…
Вы поможете нам, дорогой…
Из Москвы с дядей, с тетей совместно…
Мил-лый, мил-лый… Ведь вы же – другой,
Не такой,
Как… все эти!»
Я… Я понял бы и порадел,
Был бы к просьбам подобным отзывчив сугубо:
«Да, всегда этот… Наркомвнудел…
До чего это грубо!»
«Понимаете? Взяли подписку с меня,
Чтоб я быстро, в три дня,
Из Москвы с дядей, с тетей совместно…
А за что, неизвестно!
Дядя Поль тож уволен из банка».
«Не волнуйтесь, граф… жданка.
Успокойтеся. Я поспешу.
В долг себе я вменю.
Я напишу.
Я позвоню».
«Ах, недаром сказала мне тетушка Бетти,
Чтоб я к вам…»
«Рад быть вашим слугой».
В ручку – чмок.
«Вы же, право, другой,
Не такой,
Как… все эти!»
Я бы этак галантно согнулся дугой,
Доброту ощущая во всем своем теле.
Удивляться ль, что я под конец, в самом деле,
«Не такой, а другой»,
Оказался бы по разбирательстве строгом.
За партийным порогом?
Мне б сказали: «Прощай, дорогой!
Обмотали твою „доброту“ вражьи сети.
Оступился ты левой и правой ногой.
Ты – другой,
Не такой,
Как мы все и все эти».
Под Москвой – не где-либо в глуши –
Человек есть такой – предобрейшей души.
Я его приведу для примера.
Под Москвою есть Пушкинский зверосовхоз.
Разведенье пушистых зверьков – не химера.
Дело можно и должно поставить всерьез.
Горностая, иль соболя, или куницу,
Чернобурую ту же лисицу
Можно выгодно сбыть за границу,
За границей же на барыши
Прикупить самых нужных Союзу товаров.
Но – директор пушного совхоза, Макаров,
Человек исключительно доброй души.
На порядки совхозные глядя,
Говорят ему часто рабочие:
«Дядя!
Наш агент по снабжению, Рябов, он – вор
И, приметь-ка, кулацкой породы:
Занимался торговлей скотом в оны годы».
Отвечает директор: «Пустой разговор.
Ну, какой же он вор?
С добываньем снабженья справляется чудно.
Очернить человека не трудно».
«Дядя! Слесаря, Дешина, ты-ко проверь.
Перекрасился явственно Дешин теперь.
А давно ль был он щукой торгового крупной?»
«Что вы, что вы! Да совести он неподкупной,
Стал таким, хоть в партийцы его запиши.
Поведенье его образцово, бессудно.
Тоже вы – хороши!
Очернить человека не трудно».
«Дядя! Руднев, агент, он по прошлому – поп,
А теперь – злой прогульщик и пьет беспробудно».
«Тоже вспомнили: поп. Дело прошлое – гроб.
Сами пьете вы тоже, поди, не сироп.
Руднев пьет? Ну, а вы – пожалеть его чтоб…
Очернить человека не трудно».
«Дядя! Ты бы проверил, кто есть он таков,
Не лишенец ли он, Витяков,
Что устроился в автогараже?
Мы должны быть на страже:
С соболями у нас уже было… того…»
«Что? На страже? Какой? От кого?
Ждать совхозу каких и откуда ударов?»
Он не знает, не хочет он знать ничего,
Добрый дядя, директор Макаров.
«Дядя! Жулик Леонтьев ворует мясцо!»
«Дядя! Мельник Маямсин торгует помолом!»
Добрый дядя страдальчески морщит лицо
Перед явными фактами, пред протоколом:
«Бож-же мой, это честный наш мельник – злодей
И Леонтьев ворует? Мне слушать вас нудно.
Самых дельных и самых честнейших людей
Опорочить так не трудно».
«Ты б Артемова, дядя, послушал хоть раз,
Как он злобно вступает с рабочими в прения.
Подкулачник он злостный, из темных пролаз.
Засорен наш колхоз».
«Я, чай, сам не без глаз.
Никакого не вижу у нас засорения!»
В результате – в совхозе на стенках приказ
От 25-го мая:
«Принимая
Во внимание… вследствие…
С соболями случилося бедствие:
Внезапно погибло от желудочных схваток
Плодовитейших, самых отборнейших маток…
До выясненья причин
Объявить карантин».
Было вскрытием удостоверено,
Что какой-то подлец злономеренно
Лучших маток по выбору перетравил,
Что вредительство это прямое,
Что не новость в совхозе такие дела:
В ноябре, в ночь как раз на седьмое,
Уж попытка такая была
В отделении тож соболином:
Лютей злобой к советскому строю горя,
Кто-то «в честь Октября»
Соболям дал еды, начиненной стрихнином.
Враг не спал. Он орудовал ночью в тиши.
Днем – седьмого – директор добрейшей души
Выступал на трибуне, ну, как! Замечательно!
«Мы врагов – вообще – сокрушим окончательно!
В этот день – вообще – мы, рабочий народ…
Да здравствует наш!..»
Голосил, пяля рот,
А про случай ночной ни словечка.
Осечка.
Потому – «доброта».
Как узнать, кто «работал» в совхозе подспудно?
Может быть, личность эта, а может, и та.
«Очернить человека не трудно».
Я ж Макарову розы в венок не вплету.
Говоря откровенно, какая тут роза:
Полетел он – да как полетел! – из совхоза
За «доброту»!!
Живое звено*