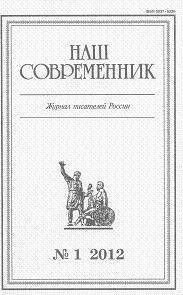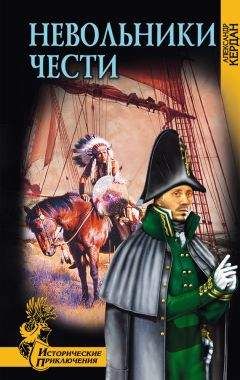Александр Кердан - Избранное
Исповедь Дантеса
Фривольная поэма
До чего ж он, однако, живуч,
Из Бордо пресловутый французик.
Александр ДратБлистательные замыслы лелея,
С бессонницею ладить не умея,
Затеял я поэму о любви…
И что мне откровения кого-то?
Охота, лишь когда двоим охота
И хмель весенний буйствует в крови.
А что любовь? Ужели только в книжках
Она – удел мечтательных мальчишек
И девочек, спешивших повзрослеть?
А в жизни – только выдумка за этим,
Чтоб в результате появлялись дети,
И «полюбить» – синоним «захотеть»?
А «полюбить навек» – синоним «очень»…
Но жизнь людская той любви короче,
Что настоящей принято считать!
Ведь полюбить – не то, что печь оладьи,
Тут речь идет о самом главном ладе,
Когда ты пред самим собой – не тать
И пред людьми и Господом безгрешен…
И чудятся мне косточки черешен
У той дуэльной памятной черты…
И что душе чужие откровенья,
Когда и смерть не будет избавленьем
От покорившей сердце красоты!
И что душе?..
Да, видно, все же надо
Для постиженья смысла или лада
Чужой мундир напялить на себя,
Принять совсем немодную личину
(Сейчас, коль офицер, то – не мужчина…),
В герое антипода возлюбя,
Завоевать презрение потомков…
Пуститься смело в путь по грани тонкой,
Когда и честь, и совесть на кону…
Ну что же, с тем, перекрестясь, начну.
Еще я сам не ведаю начала.
Еще при родах мама не кричала.
Еще мой пращур не посеял нас…
Еще земля планетою не стала,
Но, я уверен, даже в этот час
Была Любовь
рассеянна во мраке,
Она сводила звезды в зодиаке
И Божьею улыбкою зажглась.
Была Любовь.
Иначе бы откуда
Протуберанцев плазменное чудо —
Явилось Солнце, оживляя тьму,
Все подчинив свеченью своему?
Откуда бы луга зазеленели,
И ящеры бронею зазвенели,
И влагой заплескался океан?
И, в свой черед, средь прочих
тварей Божьих
Возникла та, что на Него похожа,
И был иной виток развитью дан.
Была Любовь
опредь Адама с Евой
И памятного яблочка, что с древа
Их якобы попутал змей сорвать…
Была Любовь. Она уже витала…
Я сам еще не ведаю начала.
Но, может, так и надо начинать.
Завязка у поэмы очевидна:
Два мужика и одному завидно,
Что у другого – милая жена.
Красавица бесценная, она —
Ему совсем не пара…
Это мненье
Не подлежит, наверное, сомненью.
(Хоть в мире все сомненью подлежит!)
Но здесь – иное. Геккерн тут вмешался
И на крючок истории попался:
В России в бедах всех виновен…МИД!
По крайней мере «Память»[5] так решила б.
И все грехи лукавому пришила,
Ведь шила-то в мешке не утаишь.
Мы разобраться в истине сумеем,
Нам наплевать, что Геккерн был евреем
И «голубым» вдобавок, но…
Шалишь!
Сейчас приличней «голубым» назваться,
Только б под красным стягом не остаться.
И под фашизма знамя не попасть…
Из Сциллы пасти да в Харибды пасть!
Все это – мифы, равнозначно – сказки,
Но есть иная версия завязки.
Один из них – мессия и поэт,
Второй – бездарность со смазливой рожей.
И пусть при эполетах он, но все же,
Хоть звездами осыпь, таланта нет
(Иль неизвестен нам, по крайней мере…).
И вот уже вам – Моцарт и Сальери.
И можно прогнозировать итог,
Который не предвидит даже Бог.
Но я завязку завяжу иначе.
А вдруг – любовь повинна тут?
Что значит
В любви людской и зависть, и талант?
А вдруг – совсем не светский флирт все это?
Что значит, что она – жена Поэта,
А воздыхатель – просто дилетант?
Кто право дал его судить за что-то,
Коль он влюбился вовсе без расчета,
Хотя и офицер, а не пиит?..
Я сам в любви своей – космополит
(На простынях мы все – космополиты:
Поэты, диссиденты, замполиты,
И даже в рясе – добрый херувим —
И тот в любви не может быть иным)…
Ах, я безумца в страсти понимаю,
Когда я стан девичий обнимаю,
И убеждаюсь в те мгновенья я:
Там, где любовь, там родина моя!
…И кажется, душа не из железа,
А из железа все, что за душой…
И мнится мне, что в шкуре я чужой
Был в прежней жизни не собой – Дантесом.
Я в прежней жизни, верно, был Дантесом
(Чтобы платил по счету в этой я…).
В России, пусть ты – не поэт – повеса,
Уже, считай, что мальчик для битья.
А если, грешным делом, иностранец
(Но Пушкин-то, меня простите, кто?),
То первую красавицу на танец
Ты пригласить не смеешь ни за что!
В сужденье этом повод есть для спора,
Ведь лад французский вечно здесь в чести.
Но русофильство, грозное, как порох,
Держава держит про запас, в горсти.
От лавочника до премьер-министра
Следы его найдутся без труда…
Нужна лишь искра, маленькая искра!
И что тогда? – Увидишь, что тогда…
Здесь страшен бунт бессмысленный,
кровавый,
В котором никому не будет славы
И не достичь победы никогда,
Пока в сердцах безумствует вражда,
И баррикадой делятся держава,
Знакомый город, двор отсель досель
И часто даже брачная постель…
Ужели снова загорится пламя,
Чтоб все опять до основанья снесть?
Но мы своим умом богаты сами,
У нас на все свое сужденье есть!
Нас «Искрами» теперь не запугаешь,
Цена у искр уже совсем другая.
В валюте, с добрым дядей посреди…
Он скажет нам, что ждет нас впереди.
Поскольку, в оправдание прогресса,
Мы – сфера закордонных интересов,
С любой из наших домородных бед,
Где президент со спикером в раздоре,
И не понятно, кто мудрее в споре,
Где и Совет Верховный, как комбед!
А дядя Сэм, от умиленья тая,
Страной нас недоразвитой считая,
Пришлет кусочек мыла к Рождеству
И пожеланья искренние, чтобы
Мы магазины называли «шопы»…
Что и осталось нам, по существу.
К чему об этом речь веду в поэме?
Устав, как все, от распрей и полемик,
Я все ж не в силах одолеть в себе
Любовь к гробам отеческим и к дыму,
Что связывает нас, как пуповина,
С Отчизною неласковой.
В судьбе
Моей полынный дым приятен…
И пусть на солнце нашем столько пятен,
Что и не сосчитать без ЭВМ.
Оно – мое!
И как бы не назвали
России дым – отеческие дали
Я не продам вовек и не проем,
И променять на жвачку не намерен,
Хоть добрый дядя в этом и уверен.
Он поддержать, как пионер, готов
Правление любое и блокаду
И шелестом дензнаков, и прикладом,
И нотами сиятельных послов,
На радиоизвестия – цензурой,
И на прилавках – поп-макулатурой,
И суррогат-продукцией – кино…
Кампания продумана давно,
Как хорошо написанная пьеса,
Еще тогда, когда я был Дантесом,
А не пиитом, как теперь пришлось…
И потому, должно быть, обошлось,
Была мне ссылка за дуэль расплатой,
Но ведь не на Кавказ и не в солдаты.
Туда, где горы, где всегда пальба,
И месть за месть, и вечная борьба
Во время наше и во время оно…
Там под ислама ветхие знамена
Иль под хоругви древние Христа
Встают мужчины, позабыв о женах,
И, будто в допотопные лета,
Уже им проще брать булатом злато
И жен чужих, в чужих домах распятых
Перед глазами связанных мужей.
Уже им легче убивать невинных,
Чем к Господу на суд идти с повинной,
Которой всем не миновать уже…
Меня война покуда миновала.
Не пал я на афганских перевалах
И в дни резни, продолженной у нас,
Когда Афганистаном стал Кавказ.
Я не убит еще на радость всем:
Политикам, издателям, блудницам…
Но – не спешите.
Рано веселиться…
Уже мне скоро стукнет тридцать семь.
И пусть не на Кавказе, не в Кабуле,
Моя давно уже отлита пуля.
А повод будет найден без труда:
Послать туда, неведомо куда,
Чтоб врезал правду-матку я о жизни
И чтоб нашелся вовремя указ
О том, что мной написанный рассказ —
Есть клевета на милую Отчизну
Иль на того, кто выше всяких правд
(И потому не может быть не прав)…
Зачтутся в деле также три доноса
По, так сказать, любовному вопросу
(Шерше ля фам, точнее, се ля ви…)
О том, что я – космополит в любви,
В постели не за этих, не за тех,
А лишь за демократию утех…
(Там слыть вполне пристойно демократом,
Пока все поднимаешь без домкрата.
И не страшат тебя ни съезд, ни путч,
Покуда ты желанием могуч…)
А что за этим? Ясно – я виновен.
К штыку перо не приравнять иное.
И остается: завязать глаза…
Но, может, не вести о мрачном речи?
Иных уж нет, а мы – еще далече
От той команды: «Пли!»
Я лично – «за»!
И верю: повод есть для оптимизма…
Еще не отошли от коммунизма,
Ну, а капитализм – когда дойдем?
Мы тему интереснее найдем.
…Чуть не забыл, ведь я же был Дантесом.
И слыл влюбленным «по уши» в нее…
Творенье Божье иль уловка беса —
Нечаянное счастие мое?
О, как мы с нею радовали тьму
Слепыми поцелуями и дрожью,
Что выше клятв наивных, полных ложью,
Что выше слов…
Зачем и почему
Тьма так спешит скорее стать рассветом,
Раскаяньем сплетенье наших рук?
Сюжет провинциальный, но на это
Мне сетовать, ей-богу, недосуг:
Провинция – любви моей столица.
В столицах извели любовь давно
На браки по расчету…
Там жениться —
«Прописке на жилплощади» равно.
А если уж с безродным породниться,
То это – мексиканское кино!
И я, признаться, грешен:
В ностальгии
По женщине, которой рядом нет,
«Марии» преснопамятный сюжет
Урывками смотрел, пока другие
Меня не поманили имена.
Но в этом «Санта-Барбары» вина.
А в целом виновата мелодрама:
– Онегин, я другому отдана, —
Не часто так сейчас вещают дамы…
Ну что ж, пришли иные времена.
Я их судить не вправе и не волен,
Вакансией Онегина доволен.
Чудесней чуда женщины в России,
А около нее – еще чудней!
В Варшаве и в Париже иже с ней
Давно уже не водятся такие.
(Я, к слову, сам в Париже не бывал,
Для встреч предпочитая сеновал…)
Какие ласки на духмяном сене,
Когда от комарья вам нет спасенья
И от стеблей, что колют невпопад,
То в спину ей, то вам, простите, в зад…
Но искупленьем этих всех уколов
Во все, что, я страшусь заметить, голо,
Но не смущает ни ее, ни вас,
Здесь любят, будто бы в последний раз.
А в первый?.. Мы в любви так неумелы,
Но ведь не в технике же секса дело,
А в том, какие комплексы в тебе…
Мужчинами становятся в борьбе
С самой природой, с похотью начальной
Пред красотою женской, гениальной…
Томясь одним желанием постичь
Всю глубину различий, данных Богом,
Мальчишками мы в щелочку убого
Ее выслеживали, словно дичь.
Спросить не смея маму и отца,
На улице внимали анекдотам…
Про «это» слышал что-то от кого-то —
Был путь познанья пройден до конца.
Когда же приводили под венец
Девчонок тех, которых в жены брали,
То о любви ничуть не больше знали,
Чем в щелку наблюдающий юнец…
А дальше все зависит от удачи…
Смешно и стыдно.
Так или иначе,
Уже ступенька преодолена.
Не девочка она, но не жена,
Уже с тобою связана порукой…
И учатся быть трепетными руки,
И губы произносят имена,
Порой не те, что мы хотели слышать.
Но в первый раз жена дается свыше,
Какая б ни была за то цена.
Мне повезло – я был воспитан мамой
(В какой из жизней – не понять теперь…),
И рвущийся из подсознанья зверь
В подкорку загоняем был упрямо
Моральными сужденьями о том,
Что неприлично все ж крутить хвостом.
Что до сих пор на белом свете есть
Понятия такие: долг и честь.
И что пристало так же жить сейчас,
Как жили предки сто веков до нас,
Из первобытного изыдя леса,
Еще тогда, когда я был Дантесом…
Когда мне пофартило, повезло
Влюбился я всему и вся назло
В ту женщину, которой дорожу я,
Забыв, что полюбил жену чужую.
Космополит в любви, наивно рад,
Забыл о том, что сам давно «рогат»
И письмами подметными испытан,
Пред подлостью мне близких беззащитен,
Как перед Конституцией судья,
Вакансией Онегина доволен,
Я не судим пребуду, не судя
Других за то, что выше нашей воли.
В конце уже мерещится развод…
В котором кто из нас теперь не дока?
У Дома Белого милиции обвод:
И снять – тревожно, и оставить – плохо.
Как бесполезно к мужу лезть в карман,
Чтоб отыскать любовную записку,
Когда уже разлука близко-близко,
И жизнь не завершится, как роман,
Прекрасной сценой, где простив друг друга,
В объятия бросаются супруги.
Ах, я и сам с разводами знаком
Не по наслышке и не на примере
Друзей моих, забывших о карьере,
И телепередачи, где закон
Один для всех и вовсе не как дышло…
На шкуре испытал своей, так вышло,
Любви отрыжку, счастия финал,
Как ветер тот, что бурей пожинал.
Одно отрадно: без пилы двуручной,
Которой пилят, ведь вдвоем не скучно,
И телевизор, и тряпичный хлам,
И даже книги – строго пополам.
Еще приятней, что не нацпричины,
В которых наш серпастый паспортина
И чуждое гражданство – лишь предлог —
Нас развели, как Русь и Украину,
Чтоб Черноморский флот – любви итог,
Как общее дитя, на части рвали…
Мы, слава Богу, распрей избежали,
Когда, вообще, их можно обойти!..
Вчерашний день, за все меня прости!
О завтрашнем задуматься полезней…
Мучительные приступы болезни
Одолевать с годами научусь.
О, память наша, ты подобна бездне,
Куда сорвавшись, до смерти лечу!
Но видно, мне помучиться охота:
Цепляюсь за попавшийся мосток…
Когда бы на дуэль хоть вызвал кто-то —
Я сам себя, чудак, убить не смог.
Но стало не хватать у нас Дантесов,
Как, впрочем, и прекрасных Натали…
Встречаются, конечно, поэтессы,
Но, Боже правый, с ними сам шали:
Я столько водки выпить не сумею
И потому вдругорядь уцелею.
В любви традиционно – сирота,
Свое сиротство трудно изживаю.
Легко влюбляюсь, долго остываю.
А позабуду – снова пустота…
И в этой пустоте звучат, как месса,
Слова о том, что сам я был Дантесом
И сам любовь свою я расстрелял
(И в этом кульминация поэмы)…
Виновных нет, коль виноваты все мы,
Сражая нашу память наповал,
В Россию целя, вольно иль невольно.
Нам больно, коль любимым нашим больно,
Пусть даже безответен тот порыв…
История сорвет любые маски,
Но это не конец еще – развязка.
Покуда жив Дантес – и Пушкин жив!
Я не убит, я жив, на радость всем
Дворовым жучкам, поднебесным птицам
И маски сбросившим
знакомым лицам…
Но – тридцать семь,
мне скоро – тридцать семь…
И Лермонтовым, в свой черед, не став,
И Пушкиным быть тоже не успею.
Но ждет Пророка все века Расея
И верит в гений, как солдат в устав.
А гении, пророки не родятся
Из чрева лжи, на простыни из роз.
Они как язвы старые гноятся
На теле Правды, вставшей во весь рост,
И этим гноем исцеляют раны
И, умирая, дарят Правде жизнь…
Пророком быть во все века – не рано,
Но в свой короткий век поторопись,
Пока еще тебе отпущен срок
И не нажат судьбы тугой курок,
И друг, что секундантом быть обязан,
Остановить тебя еще не смог.
Я дружбою, как пуповиной, связан
Со светом белым, с родиной моей…
Космополитство чувств, души пристрастья,
Постелью ограниченное счастье
Здесь ни при чем, я – не о том, ей-ей!
Мужская дружба – разговор особый,
Здесь друг пред другом равноправны оба.
И тут взаимность, право, не во вред.
Сильнее кровного по сердцу братство,
Плечо, к которому могу прижаться,
Покинув тесный круг житейских бед…
И я, в плече таком еще уверен,
Перед самим собой не лицемеря,
Страшусь пред другом вдруг предстать
как тать.
И кажется сильней любви все это,
И даже самой лучшей, мной воспетой,
Что настоящей принято считать…
Но вот вселенская завыла вьюга,
И с другом мы не поняли друг друга,
И стала ощутимее черта,
Та, за которой, мелочи итожа,
Мы целим в то, что нам всего дороже,
Доверье распинаем, как Христа.
Испытывая дефицит доверья,
Мы выпускаем из подкорки зверя,
Способные уже на беспредел,
Из первобытного изыдя леса,
Когда впервые в друге я Дантеса,
Словно в себе, отчаясь, разглядел…
И кто виновен, если все одно?
Иль женщина, как кошка промелькнула,
Иль истина в бокале утонула,
Разбавленная импортным вином,
Иль закружил мозги нам принцип ложный,
Но примиренье стало невозможно,
И выбора – не встать под выстрел – нет:
Зрачком ознобным смотрит пистолет.
Кровь горяча и чуть заметна ранка…
Меня на шубе друг относит в санки
И мчит куда-то, чая довезти…
Я выстрелил «на воздух», не жалея,
Что так и не назвал любовь моею.
Вчерашний день, за все меня прости!
За то, что был порой в чужой личине,
Что не к лицу поэту и мужчине,
За то, что быть пророком захотел
В отечестве своем неименитом,
Предпочитая слыть космополитом,
Все ж не пропил его и не проел.
В угоду моде, что у нас настала,
На лоскутки не резал одеяло
И не тянул за угол на себя,
Внимая иноземному совету…
В Россию верил, в нынешнюю, в эту,
В ней ту святую женщину любя,
Которая, даря мне жизнь, кричала
И будет для меня всегда причалом
И здесь, и за границей бытия.
Где есть надежда все начать сначала,
Пока храню любовь души кристаллом,
Покуда сам храним любовью я.
Я обещал поэму о любви
Да не одной – двум женщинам, мне милым…
Обет исполнить недостало силы
И буйства, что безумствует в крови.
Хотел о главном,
Да вмешались тут
Политика, иные катаклизмы…
А что любовь?
Она идет от жизни,
А жизнь туда идет, куда ведут.
Я доброю цензурою ведом
Прекрасных глазок, внемлющих мне ушек,
Готов не слышать залпы правых пушек,
Стреляющих в совсем не правый дом,
Поверив, что Гоморра и Содом
Есть порожденье нашего былого…
Я милым ушкам дал недавно слово
Все ж до любви поэму довести.
Любовь одна достойна интереса,
Но в ней постскриптум – миссия Дантеса,
А он в России до сих пор в чести.
Царская фамилия