Николай Краснов - Живите вечно.Повести, рассказы, очерки, стихи писателей Кубани к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
У неказистой полуторки беспокойно и гомонливо толпился хуторской люд. Жалобно и надрывно, словно на похоронах, с причитаниями взвывали жены, считай уже солдатки. На них сострадательно глядели старухи, вздыхали, то и дело крестились, нашептывая молитвенное слово. На руках и у ног матерей вскрикивали раздраженным рыданием детишки, словно чувствовали свое скорое сиротство. Стенания и плач возносились над головами. И только приглушенный рокот мужских голосов разливался умиротворяющей волной над общим волнобоем печального разноголосья.
Уезжающие подбадривали тех, кто оставался.
Степенство и достоинство являли собой старики, сбившиеся небольшой группкой. Дед Антип для такого высоко — значимого часа вырядился в Георгиевские кресты, которые как‑то не шли к его малорослой и засушенной фигурке. Порой он норовисто тщился выпятить грудь, щерился ветхой серебряной бороденкой, но тут же вновь сникал над суковатой клюкой из‑за немощи квелых ног.
Сосед Прохора Андреева, до бессознанья зашибленный крутохмельным вином и пекучей горечью разлуки, терзал вытертую на планках и мехах неразлучницу — двухрядку. Уже из кузова что есть мочи, кричал хуторянам и хатам свою любимую: «Так будьте ж здоровы, живите богато…»
Прохор, напротив, был молчалив и трезв. Наперекор всему отказался глаза заливать и разум туманить, чем желал проявить свое уважение к семье и всем, кто пришел на проводы. Да и последние минуты запомнить хотелось до самой что ни на есть маленькой крупиночки.
— Голуби вы мои, — с нежностью пригортал Прохор сильными руками к широкой груди жену Марфушу, пятнадцатилетнего сына Артема, вытянувшегося почти вровень с отцом, и любимицу свою — дочурку Марийку, которую держал все время на руке, словно и снимать не помышлял. — Живите тут согласно, берегите друг друга, — наказывал он им. — Ждите меня. — И целовал каждого.
Сын противился такой ласке, косился по сторонам и густо румянился.
К жесткому подбородку мокрыми горячими щеками тянулась жёна, Марфуша. Вглядывалась страдающими раскрасневшимися глазами в обветренное лицо мужа, которое было побледневшим и серым от скрываемой, но явной скорби.
— Ты себя береги, — шептала она, всхлипывая и припадая на грудь. — Для нас берегись. — И, не сдержавшись, жалко и тоненько заскулила.
— Голуби мои… — обнимал Прохор могучими руками семью свою, словно огораживал от лихой беды. И в этих объятиях каждый чувствовал себя теплей и уютней.
— За нас не беспокойся… Себя храни, — шептала притихшая Марфушка на груди Прохора.
«Кто же сейчас о себе думает? Да и как можно! — сокрушался в душе Прохор, и горячими степными вихрями взвивались, обжигая разум и сердце, беспокойные мысли. — Себя беречь, значит вас погубить. И не только вас, а всех. Если всех не защищать, значит, и вас погибель не минет…»
Прохор видел в гудящей толпе убивающихся женщин, на глазах сиротеющих детей, и гневно кричала его душа, наполняясь силой отваги и ненависти к коварному ворогу. «Люди, люди! — думал он, оглядывая хуторян, женщин, старых да малых, показавшимися ему в эту минуту такими беззащитными и от того еще более близкими и дорогими. — Голуби вы мои! За нашу общую жизнь, за ваши страдания и слезы горючие тут вот я, перед вами, клянусь! Клянусь! Себя не щадя, буду бить супостата…»
Глянув строго на шофера, он дал знак…
Тот расторопно поспешил в кабину, и хриплый, частый сигнал заторопил людей. Крутой, обжигающей волной всплеснулись прощальные отчаянные голоса…
Все дальше и дальше катила машина от хутора. Курилось серое облачко на пустынной степной дороге, и у первого взгорка растаяли, растворились в великом пространстве горькие и печальные крики.
Палило солнце, от безветрия и зноя звенела степь, а может, тот звон сам собой возникал в ушах. Не разобрать в такую минуту. Прохор щурился в сторону хутора, уплывающего зеленым кораблем в неоглядную степь и покачивающего в мерцающем воздухе мачтами тополей.
Сквозь это марево сорванных с родной земли частичек едва различался зыбистый след морщинистой от нелегкой доли старой степной дороги, которая вилась, неровно скользила меж балок и холмов сереющей лентой, тянулась к хутору ниточкой, грозя вот — вот оборваться. И от этого в душе тоже что‑то больно натягивалось, утончалось, словно сама святая надежда, и звенело щемящей нотой.
«Голуби вы мои… — мысленно повторял Прохор). — Голуби мои…»
И невольно перед задумчивым взором являлся в солнечных лучах далекий и желанный день венчания его со светлоокой красавицей Марфушей, когда мать, уже седая, но такая вдруг помолодевшая в этот час, в нарядном васильковом платье, светящаяся радостным волнением за будущее счастье детей, ласково — певучим голосом благословляла их узы любви на весь путь земной и одаривала молодых щедрыми пожеланиями в напутственных словах.
— Амбары вам хлеба, — желала она молодоженам, — во всю землю ясного неба, — и развела при этом широко руками, — вся одухотворенная и несказанно счастливая, — моря — океаны чистой воды да ни единой беды!
Многое сбывалось из материнских пожеланий… И хлеба нарождались год от года все тучнее, и народ все больше обзаводился достатком и благополучием, заметно полнилась общая радость людская, и в семье Прохора Андреева прочно прижились лад да согласие. Не дожила только мать до этих дней… Зато черную годину вражьего разбоя и насилия не увидит…
А година эта уже многим тысячам жизнь рушила и ломала ее наперекосяк. Темнело небо и тускнело солнце от дымов пожарищ и горя людского. Растекались беды и страдания по земле родной, полоня самые далекие и что ни есть глухие уголочки ее.
Пришлось сыну Артему распрощаться со школой и немедля оседлать отцовский «Фордзон — Путиповец». Два минувших лета, которые он добросовестно потрудился в прицепщиках у отца, как никогда кстати, сгодились теперь. Прохор часто доверял руль сметливому, как ему казалось, и серьезному в работе парню.
Теперь Артем работал сам. Дело исполнял аккуратно и настырно. Старался сделать побольше, так и писал отцу на фронт, что работает за двоих: за себя и за него.
И дед Антип, который к тому времени уже третий год отсиживался дома из‑за крайней немощи телесной (хотя заслуженный, добросовестно заработанный отдых бь[п с почестями отмечен более десятка лет назад), теперь снова замаячил с неразлучной клюкой на бригадном стане. По здоровью и работа подобралась. В латаном тулупчике, при непогоде в дождевике поверх всего накинутом, на бричке в одну лошадь развозил по полям в бочках «горючку». И колесил по степям средь трудившихся машин и людей круглыми сутками. Понятливая лошадка приходила к нужному месту, даже если хозяин ее и вздремывал от утомления.
Молчалив был в ту ночь старик.
— Дедусь! — встречал озабоченно его Артем, отстраняя от чумазого заострившегося лица коптящий факел огня и освещая им подводу. — Наливай скорее, а то вот — вот заглохнет.
Дед Антип звякнул ведром, лейкой из черной жести, скупо закряхтел, стараясь проворней приподняться с мятого клочка сена, припасенного впрок для своей труженицы. Но старые затекшие ноги, угробленные еще в стылых окопах империалистической, не слушались, онемевшие, словно из ваты, вяло подгибались.
Не мешкая, Артем воткнул в рыхлый пласт чернозема прут с горящей паклей и, подхватив ведро, стал наполнять горючим бак.
— Дед Антип, когда ты спишь? — меж делом окликнул Артем старика, прогоняя свою предутреннюю сонливость.
— А кто сейчас спит? — глухо, как‑то нехотя, отозвался старик.
От сполохов пламени беспокойно метались черные тени. Алые блики отсвечивались на серебристых шпорах колес и на блестящем ободе, тревожно вспыхивали они в белесых, слабых глазах старика.
— Кто сейчас спит? — помолчав, так же глухо и грустно повторил он. — Никто не уснет… Как там твой отец?
— Дает перцу фашистам!
Артем возвратил ведро и занялся плугом, зазвякал ключами.
— Прохор трудолюбивый, — согласился дед Антип, нащупывая у колена вожжи. — Он и там будет первым. Всем бы так, тогда управимся.
Людское несчастье — нежданную войну, по разумению деда Антипа, можно одолеть только общим добросовестным трудом, чтобы каждый не страшился ни тяжести его, ни опасности.
Он сам с германской вернулся с ревматизмом ног, раненным в грудь, с покалеченной правой рукой и при двух Георгиевских крестах. Из‑за скудного здоровья не пришлось участвовать в гражданской, но так или иначе к ней отношение имел самое прямое — был в хуторских активистах. Да и мстительному
кулачью, саботажникам покою не давал.
Но награды царские носил напоказ, за что председатель сельского Совета не раз корил его:
— Ты представитель новой власти, а не какое‑то самодержавное отрепье.
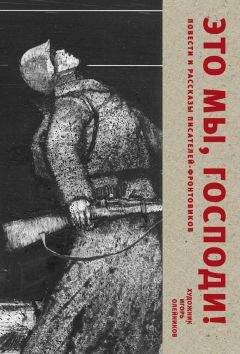
![Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]](/uploads/posts/books/275812/275812.jpg)


