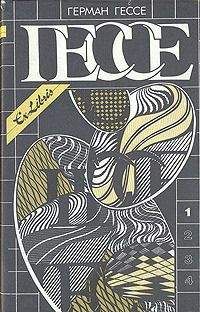Лидия Алексеева - Горькое счастье: Собрание сочинений
МИЛОН РАКИЧ (1876-1938)
СИМОНИДА (Фреска в монастыре Грачаница)
Кто злобно ослепил тебя, царица?
Албанец дикий, под покровом ночи,
Когда луна по плитам серебрится,
Кривым ножом твои царапал очи.
Но не дерзнул рукой коснуться грубой
Короны царской с покрывалом тканым
И пышных кос под ним; лицо и губы
Помиловал в смятении нежданном.
И в тихом храме, на колонне стройной,
Мозаикой одета и забвеньем,
Над темным миром ты паришь покойно
Печальным белым царственным виденьем.
Как звезды, что — угаснув — на прощанье
Всё шлют нам свет чудесный и нетленный,
И видят люди трепет, цвет, сиянье
Светил, давно ушедших из вселенной, —
Так светят мне прощенною обидой
Из темноты многовековой ночи
Печально и чудесно, Симонида,
Твои давно померкнувшие очи.
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ (1898—1993)
ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Целый день тихонько снег весенний падал,
Как с деревьев цвет.
О, как в этот вечер, о, как я бы жадно
Улетела в новый неизвестный свет!
Далеко отсюда в цветопаде снежном
Легкая, как стих,
Чтоб тебе доверить слов источник нежный —
Теплых, новых, светлых, собственных моих!
И под вечер тоже снег тихонько падал
Мягок, синь и густ.
Я тебе была бы в этот вечер рада –
Только нет тебя. И сад мой бел и пуст.
С пасмурного неба на землю слетает
Снег – за прядью прядь.
Но стоять одной под снежными цветами,
Но – одной стоять!
С ЭСТОНСКОГО
МАРИЕ УНДЕР (1883-1980)
МЫ ЖДЕМ
Разбились племени живые звенья,
родной очаг погашен смертной тенью.
Душа и плоть чужой стране не рады.
Мы не живем — проходим с жизнью рядом.
Глаза расширены от ожиданья,
но прямы плечи под крестом страданья.
Он легок нам — в одно упорно верим:
жизнь наш должник, она вернет потерю.
И от души к душе мольба сквозь годы:
приди, о день сверкающей свободы!
Тот день, что матерью зовет и ищет
детей потерянных на пепелище,
тот день, что нам вернет лицо и имя,
чтоб снова стали мертвые живыми!
Явись же день, в святом и вольном свете, –
мы ждем тебя в слезах, твои родные дети.
Мы ждем тебя всё твёрже, всё спокойней,
так легче жить, так умереть достойней.
СТРАНСТВИЕ ВО СНЕ
Вода расступилась под вихрем студеным,
вскипела река,
я, плюнув в ладони, гребла исступленно,
я челн уводила рукой моряка.
Вот берег, причал. Я осмелюсь ли, нет ли?
На что я решусь?
Как небо здесь юно, как шелест приветлив, —
не смею иль смею, я здесь остаюсь.
Я воздух вдыхала и вновь выдыхала
до хрипа в груди,
и влажная зелень меня призывала,
шепча первозданным дыханьем: «Приди!»
Ручей заплескал под цветами вербены,
ответила: «Гей!
Я здесь камышовые выведу стены,
здесь место для хижины будет моей».
К ручью, как к сосцу припадает младенец,
приникнув, пила —
и сила вливалась, и предкам в Эдеме,
казалось, я ближе еще не была.
Вот пегие кони, храпя, прогремели
сквозь лес во весь дух…
А ягоды! Ягод глаза голубели,
звенели в ветвях, лепетали вокруг.
Диковинных рыб я руками ловила.
Стрекозий полет
прожег мое сердце с блаженною силой,
и кем я была — кто на свете поймет?
Когда ж я, богине равна, поднимала
дымящийся сноп,
услышала: кто-то хихикнул сначала,
и с шипом нахмурился остров лесной.
В моем благодатном приюте — сопенье,
насмешливый вопль:
и пяля глаза, в опадающей пене,
шут глупо воскликнул: «И только всего?»
Я вижу — мир чуждый меня окружает,
а лодки-то — нет.
И здесь я чужая, и там я чужая,
его ж одного потеряла и след.
И что-то терзало, и что-то томило:
мне место не здесь, —
в спокойную прелесть счастливого мира
внесу я тоски и страдания весть.
Понять сатанинский обман невозможно:
судьба такова.
Я плачу на камне в пыли придорожной —
так сироты плачут, так плачет вдова.
АЛЕКСИС РАННИТ (1914-1985)
МОРЕ
Море, властная подруга, снова я с тобой,
снова слабому навстречу рушится прибой.
Я как рыба, чей на суше пересохший рот
знает: вещему стремленью ты – один исход.
Легких волн твоих спирали, белизной звеня,
всё заполнили, оправой оплели меня.
Оплели — и вдруг сорвали, подняли со дна,
вознося из мертвой жизни, из земного сна
в глубину, — и новым взлетом из небытия
над твоей бесстрастной гладью, чистая моя.
Цветом северных купальниц расцвела луна,
и в серебряный и в желтый блеск облечена.
Грудь твоя зыбится ровно. Ночь — и счастья песнь,
округлясь высоким сводом, мир объемлет весь.
Но творящий склад и меру, где возникнуть мог
стройным волн чередованьем слаженный поток?
Каждый взмах волны измерен, каждый вольный звон
точно схеме мирозданья строго подчинен.
Слышу четкий пульс планеты в шепоте песка,
плеске падающей птицы, ветре мокрых скал.
Знаю: прежде чем предвечный хаос укрощен,
прежде света, прежде слова — ритма был закон.
Так в лучах призывных ритма скованно горит
твой простор – как этот камень, черный диорит.
Твердый, льющийся предельной красотою стал,
как мелодия растущий, твой живой кристалл.
Эту строгость и движенье, сдержанность и взлет
звон прозрачного прибоя сквозь меня поет.
Станет ли моею правдой твой прямой урок,
ритм — струенье совершенства, ритм суровый рок?
СИНИЙ
Из всех я синий цвет избрал —
в нем все свиданья наши живы.
Как хорошо: еще мокра
палитра реющим разливом.
Синь глубины и дали взлет, —
а ты и выше, и глубинней,
как затаенной страсти лед,
как голос твой прозрачно-синий.
Но мерить холод синевой
я не могу, — под синью этой
он жжет, последний пламень твой,
струеньем внутреннего света.
ЭСТОНСКИЙ ГРАВЕР ЭДУАРД ВИЙРАЛЬТ(I)
Неспешен труд мыслителя. Терпенье —
его наставник. Время — друг его.
Души упорной скрытое горенье
прозрачное рождает мастерство.
Штриха алхимик и хирург познанья,
своей науки лучший ученик —
дал светлой тени черное сиянье,
прикосновеньем в глубину проник.
Блистательный, бесстрашный, как тореро,
без промаха вонзающий клинок,
он рыцарь духа, ремесла и меры,
но никогда жонглер или игрок.
Штрих — мягче линии простой и нежной
девичьего плеча. И штрих — стрела.
И белого песка извив прибрежный.
И быстрый блеск далекого весла.
Удар бича. И тихое касанье.
Блаженный штиль. И разъяренный шквал.
Крик. Инока прилежного молчанье.
Улыбки неба. Дьявольский оскал.
И времени земному непокорный
дух Мастера — первоначальный штрих,
вознесший пламя ледяное формы
превыше чувств и помыслов людских.
CANTUS FIRMUS