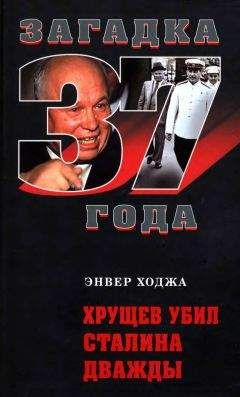Александр Величанский - Под музыку Вивальди
«Если – где? – да где угодно…»
Если – где? – да где угодно:
иль в метро, иль на проспекте,
даже в доме – за окном ли,
иль за дверью – голытьбе
коридоров – где б ты ни был
поименный? анонимный? —
но – нет-нет – а чей-то оклик
вдруг послышится тебе —
это что-нибудь да значит
пред– иль просто знаменует
ну, а что – известно только
безалаберной судьбе.
«Был человек невидим смерти…»
Был человек невидим смерти,
прозрачен был – невидим смерти,
проточен был – невидим смерти,
и оттого так долго жил.
Но был он до того невидим,
что сам он никого не видел
и, с ней столкнувшись, вдруг увидел
всю смерть – как в небе тьму светил.
«Все началось само собой…»
Все началось само собой,
чей трубный глас позвал на бой?
Все кончилось само собой,
и некому трубить отбой,
папаша…
«Пир горой. Глубока посуда…»
Пир горой. Глубока посуда.
Боже, из одного сосуда
наполняешь Ты до свершенья —
чашу ужаса, чашу блуда,
чашу гнева ль, опустошенья.
««Истлели зерна…»
«Истлели зерна
под глыбами своими»,
курится сор на
разрушенных полях,
даже скоты
ко Богу возопили,
и только ты
безмолвен, словно прах.
«Чуть вдохнет дитя…»
Чуть вдохнет дитя
вечной жизни —
выдыхает плач
человечий.
Вместе с плачем
старец убогий
выдыхает бренности
вдосталь.
«Исчерпанный убог…»
Исчерпанный убог
Иаковлев колодец…
Ветхозаветный Бог —
судья и полководец
раздался до краев
земли, и вы найдете
везде издревний кров
ветхозаветной плоти.
«Так что ж нас ждет, скажи же ради Бога…»
Так что ж нас ждет, скажи же ради Бога —
казенный дом иль дальняя дорога?
могила, что укромнее подлога?
Души ли взвесь – бишь смесь добра и зла?
– Гнедой огонь Пришествия Второго,
и белый дым Пришествия Второго,
и черный угль Пришествия Второго,
и бледного безвременья зола.
«Всякий путь ведет нас…»
Всякий путь ведет нас
туда иль обратно,
а куда ведет нас
наш беспутный стих:
чающий-то чает
для чающих, брат, но
ищущий-то ищет
НЕ для ищущих.
Пепел
Ты съеден нашим пеклом,
и, как заведено,
твой пепел смешан с пеплом
сожженных заодно
с тобой – в одну декаду?
иль месяц – знать бы надо,
но знать о том, нам смертным, не дано.
Там свой режим. Но ясно
одно: в геенне той
небрежно-безобразной
из кучи из одной
по пепельницам вас всех
распихивают наспех —
в белесый гипс – ваш пепел чуть живой.
Вот равенства и братства
бесхитростный предел.
Бывали, правда, раз-два,
что в урнах этих тел
не находили гари —
они то пустовали,
то полнил их того же гипса мел
или земля – бесславья
предел наш. Тут ясна
в пределах православья
обряда новизна
и новое уродство —
«издержки производства»,
издержанного, как царем – казна.
Не знал ты свальной казни,
не строил ты канал,
убит в бою под праздник
ты не был наповал,
и все же братской свалки,
как все, не избежал ты —
и хоть посмертно, без вести пропал.
С чьим прахом прах твой смешан
и навсегда стеснен?
Не слишком ли небрежен
был шанс? Она иль он?
Они? И кто такие?
Темно, как всё в России —
все смешано, темно, как страшный сон.
В сырой декабрьских холод,
в апрельский водостой
на чью могилу ходим
мы взбалмошной семьей,
за чьей могилой нам бы
ходить прилежней, дабы
прилежнее ходили за тобой?
Под нашими цветами —
она или они?
Вдруг смрадный грешник с нами,
а праведник? так дни
его поминовенья
не зная к сожаленью,
мы чью-то тень и огорчить могли.
Кто на твою могилу
в Родительские дни,
в дни скорби ли по сыну
приходят – кто они? —
кто над тобой на Пасху
пьет водку без опаски —
чьи дочери, чьи матери, сыны?
Возможно, что ты в разных
захоронен местах —
и скромно ль, безобразно
твой украшают прах?
иль вовсе позабыли
о ком-то, о могиле?
иль это урна в стенке и цветах.
Нет, множество деревьев,
быть может, над тобой,
цветов – красивых, редких
сортов – старик седой
какой-то их сажает
и сам того не знает,
что оба вы породы с ним одной.
Одно могу лишь знать я,
что мать, а также мы —
сыны твои и братья
с тобой погребены
на кладбище на нашем
никак не сможем – ляжем
мы с кем-то вовсе чуждым нам, увы.
…Ольха, березы, дальше —
старинная сосна,
жасмина куст удачный,
еловость, кривизна
тех слег, что мы с братьями
срубили наспех сами
там, где давно ограда быть должна.
Пред кем мы виноваты
за то, что видит Бог,
небрежно, небогато
могилы этой клок
ухожен – перед всеми
сожженными – пусть семя
взойдет над ними хоть из этих строк.
И вот мы год за годом,
когда заведено,
стоим здесь над народом
кремированным, но
и над тобою, ибо
здесь все же твое имя
среди нагих дерев погребено.
«Не зря и не втуне…»
Не зря и не втуне
былая краса
владеет так юно
чертами лица.
Как стан ее гибок,
старинный набор
столь пылких улыбок —
и кажется – вздор,
не властны нимало
над ней времена…
Но вот задремала
на солнце она,
и юности тает
рачительный след,
и сон раскрывает
лицо, как секрет,
как тайну… И вместо
покоя на нем —
вдруг выплеснут резко
морщин водоем.
Слабоумный мальчик
Больной, нелепый малый —
чей плащ ему до пят? —
лицом с улыбкой впалой
на слабой шее – в такт
шагам нетвердым – дробно
качает, и добра
его улыбка, словно
он рад дыре двора,
дождю и лужам, маю
плакатов и знамен,
и словно помовает
всему на свете он.
«Мы – словно приезжие в собственном городе…»
Мы – словно приезжие в собственном городе. Нам
в нем так анонимно – не верим своим именам.
Нам так незнакомо в толпе, набухающей днем —
своих отражений в витринах мы не узнаем.
А ночью так тихо, так призрачно нам, хоть кричи.
Невнятны нам крики за окнами в пьяной ночи.
Меняется город заочно и исподтишка,
и не узнаем мы в лицо его издалека,
вблизи ли: сливаются в общем массиве дома —
всех микрорайонов его долговая тюрьма.
Но чуждые лица до боли знакомы… Постой —
мы сами – морщины всеобщей безликости злой.
Мы сами проездом в столице. Нас жду поезда.
Но только не знаем, откуда мы или куда.
«Всё в городе близко…»
Всё в городе близко,
всё в городе рядом —
части света и небес
тусклые светила:
рассвет за соседним
заоконным домом,
закат за гостиницей,
но для иностранцев,
иль луны воздушный шар —
меж домов в просвете,
иль Венера – за углом
высоченной башни.
Всё в городе близко,
всё в городе рядом:
вечность разлученья здесь
на метро покрыл бы
ты минут за тридцать,
просмотрев газету…
Меж смертью и жизнью здесь
тоже ходит транспорт.
«Смерть зазор…»
Смерть зазор —
на, как зачатье.
Долу взор
свой опустив
иль гор́е воздев,
молчать и
прятаться в напев…
в мотив.
«Кто ж – не поэт?..»
Кто ж – не поэт? —
фантазий наших шалость —
в них смысла нет,
есть счастия печаль…
К истокам отчества,
где без тоски дышалось,
кому ж не хочется,
но хочется ли впрямь?
«Я один как один…»
Я один как один, —
думалось кретину —
не попал в равелин,
попаду в куртину.
Жизнь – есть рок иль фантом, —
думалось невежде —
после нас – хоть «потом»,
а до нас – хоть «прежде».
«Все то, что было, как сейчас…»
Все то, что было, как сейчас,
не испарится вдруг —
спроси у уст, спроси у глаз,
спроси у ласки рук:
как моря вечная гряда,
как слитность псковских рек —
пусть то, что было, навсегда
останется навек.
«Пора перебеситься…»
«Heirsofshame».
ShakespeareПора перебеситься
нам с вами, господа,
наследники бесстыдства —
наследники стыда,
пора идти под окна
того, что днесь – наш дом,
и завещать потомкам
бесстыдство со стыдом.
«Вот рецепт бескрайней воли…»
Вот рецепт бескрайней воли:
прибывший издалека,
сыщик ищет ветра в поле,
ветер ищет сыщика,
и от холода так душно
за бескрайнюю страну,
и тревога так воздушна,
как в минувшую войну.
«За деревней – выселки…»