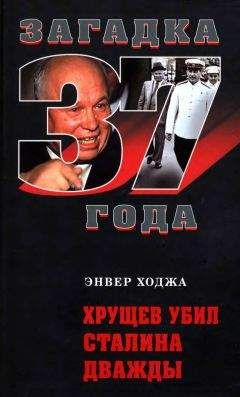Александр Величанский - Под музыку Вивальди
«Не в приволжском городишке древнем…»
Не в приволжском городишке древнем —
в городе голосовавших рук,
возле Академии Наук
корчатся весенние деревья,
словно изваянья адских мук —
тех, что терпит ныне тот,
за кого нас мука ждет.
«Не ведая про стыд…»
Не ведая про стыд,
но опуская веки,
понятия «прости»,
не ведая пока,
праматерь говорит,
сорвав познанье с ветки:
«Не век же Он ворчит
и гневен не на веки,
и нас с тобой простит наверняка».
«Более чем три недели…»
Более чем три недели,
вставши прямо под окном,
и качались, и шумели
три больших шатровых ели,
и предельно надоели,
как несбывшаяся песнь —
просто ели – неужели
могут эдак надоесть?
«Не туфта эпитафий…»
Не туфта эпитафий —
остаются впросак
лишь черты биографий,
искаженные, как
крон венозные линии,
чуть листва станет небом,
обожженная инеем,
обожженная снегом.
«Перед тем, как отвечать главою…»
Перед тем, как отвечать главою,
вернее – вечною душой,
скажу я: «Боже, пред Тобою
я согрешил – но пред Тобой.
Пусть в словоблудие облек я
простое, словно хлеб, «прости»,
но согрешил, как человек я,
а Ты, как Бог, меня прости».
«Звон твой, Джон Донн…»
Звон твой, Джон Донн,
или кубков на тризне —
что означает сей звук? —
с райских времен
смерть – условие жизни
невыполнимое, друг.
«Природа темно-синяя…»
Природа темно-синяя
огромна, но одна —
в ночной рубашке инея
она насквозь видна…
Но рассветает: вёдро —
белей, чернее лес,
и беспросветен гордо
природы пышный блеск.
«Как пословица избита…»
Как пословица избита
в мире всякая дорога —
шин узор, сапог, копыта,
птичьих ли следов кресты —
и ведет она, как прежде
в Рим транзитный от порога —
так оставь свои надежды
в отчем доме и иди.
«Они как люди – ведь…»
Они как люди – ведь
и в них Бог с виду ярок —
они умеют петь,
ласкать детей, овчарок.
Покуда мы горим,
они поют, рыгая,
про ласточку один,
другой – про нахтигаля.
«Так всякий миг земли вокруг…»
Так всякий миг земли вокруг
сияет солнце где-то,
и ночи черный полукруг
вневременен – он властен
над местом лишь (и тем темней
всё зло его), но света,
но Тайной Вечери Твоей
мир всякий миг причастен.
«Поднимите взоры, лица…»
Поднимите взоры, лица —
без перстов касанья ясно:
только человек и птица
созданы крестообразно —
в пропасть тот свою стремится,
та – в заката позолоту —
только человек и птица
век обречены полету.
«По правде сказать, я не верю в циклонов разор…»
По правде сказать, я не верю в циклонов разор —
в обрывы ветров и клочки атлантических туч —
меня занимает проблема заоблачных зорь,
меня занимает извечный заоблачный луч.
«Вверху? Внизу? Нет, где-то…»
Вверху? Внизу? Нет, где-то,
скорее сбоку – ад.
Воскресшим нету сметы
по сокрушенью врат.
А вот и Евы явлен
бесспорный образ нам
и с нею – травоядный,
бесхитростный Адам.
«Сперва тебе из-за беды…»
Сперва тебе из-за беды
не видно бед чужих.
Но те, кого забыла ты,
забудут о твоих
несчастьях, ибо меж тобой
и ближними – стена —
ты им незрима за бедой —
беда у всех одна.
«Поначалу свежим летом…»
Поначалу свежим летом
солнце светит без заботы.
За девичьим силуэтом
ночи полуобороты
столь прозрачны.
Осень следом —
разлучения, излеты —
плоть с душой, как тьма со светом,
в полумраке сводят счеты.
«Свято место пусто…»
Свято место пусто
не бывает, но
если свято. Русь-то
вспять святить грешно.
Не бывала небыль.
Нет добра во зле.
Были кресты в небе,
а теперь в земле.
«И ты, от срока…»
И ты, от срока
отставший срок,
и ты, осока,
и ты, лесок,
и ты, воочье —
заря без сна,
как белой ночью,
ты днем черна.
Снег
Он сер, как штукатурка,
он серовато-бел,
как с летнего окурка
осыпавшийся пепл —
ишь, сколько налетело —
холмом глядит ухаб.
Захолонуло тело,
и ветхий дух прозяб.
«Обособилась особь…»
Обособилась особь,
но с ногами или нет —
змий не гад – это способ,
это – эксперимент…
Иова расспросите,
сколь божествен искус…
Саваоф искуситель!
Искуситель Иисус!
«Язык из нас…»
Язык из нас
рвут на корню беззвучно,
не речь, а со —
кровенный смысл ее;
не звук – душа
окружена ушами
бездушными,
но слышащими все.
«Я только лирик, потому мой рок…»
Я только лирик, потому мой рок,
мечтать хоть о комедии не впрок —
пусть в ней полупрозрачный персонаж
вдруг вечности заглянет за корсаж,
чтобы под тканью вспученной найти
чуть различимые наземным человеком,
далеким переполненные млеком
холмы ль, ухабы млечного пути.
«Вот в чем напева диво…»
Вот в чем напева диво
насущнейшее – коль
в беспамятстве порыва
ты хладен, как огонь
незримого недуга —
души поверхность, гладь
бестрепетна, как фуга —
пучины благодать.
«Как связанные нитью…»
Как связанные нитью,
они всегда вдвоем —
агония соитья
с самим небытием
(меж ними одночасья
мгновеннейшая синь) —
и к вечности причастья
агония… Аминь.
«Недуг – печная тяга…»
Недуг – печная тяга
из песни в небеса.
Так где ж друзей ватага —
пускай погреется.
Топчан. Пустая полка.
Свеча. Иконостас.
Недуга вся недолга
недолговечней нас.
«Лишь в вере – правда и порука…»
Лишь в вере – правда и порука,
но Молхово лесное ухо,
Петром отрубленное вдруг,
вещественнее всех порук:
чем несуразней, тем вернее,
тем достоверней этот штрих
для нас слепых, как лотерея,
как ухо Молхово глухих.
«Лежала секира…»
Лежала секира
при корени древа
грядущего мира
во знак.
Но высохли корни,
секира истлела,
забыв об исконных
плодах.
«Жизнь состоит из рока…»
Жизнь состоит из рока.
Это так.
Река ль, поток, дорога —
это он:
нас из созвездий
сочетавший мрак
в нас, где невесть,
но где-то заключен.
«Из разбойников трех…»
Из разбойников трех,
трех заблудших овец
одного лишь обрек
на кончину творец,
взят второй в райский сад,
раз уверовать смог,
за Варраву ж распят
сам, о Господи, Бог.
«Дар речи – дар слышанья, слуха…»
Дар речи – дар слышанья, слуха.
И хоть благозвучней ручья
звучала разумно и сухо
стихов запредельность твоя.
Узор твой так тщательно вышит,
красы же невиданной сей
имеющий душу не слышит
посредством улиток-ушей.
«Снег пожизненно сер…»
Снег пожизненно сер.
Дни глядят «из-под льдин».
Жизнь у нас в СССР —
пересчет годовщин —
пятилеток ли гиль,
иль столетья зазор —
и с каких это пор
стала небылью быль?
Пусть не мир – лишь мирок,
но сгорает слепя.
Всяк из нас – только срок:
годовщина себя.
«Но через сорок дён…»
Но через сорок дён
от мира отойдет,
не оглянувшись, он —
всё зная наперед,
в край миновавших тайн,
числа которым несть,
о том, что вечно там
и не случайно здесь.
«Фамильный ли фарфор…»
Фамильный ли фарфор
усадебного пруда.
Фамильно серебро
заиндевевших лип.
И даже просто снег —
его алмазов груда —
всё крадено, всё
вам не принадлежит.
«Внеслужебные деревья…»
Внеслужебные деревья.
Внеслужебная вода.
Первых листьев оперенье
внеслужебно, как всегда.
Внеслужебны облак гребни.
Два по слякоти следа.
Только люди внеслужебны
не бывают никогда.
«Что гробница для пророка…»
Что гробница для пророка —
у него повыше кров —
это памятник и только
злодеяниям отцов.
«Воспоминания, помноженные на…»
Воспоминания, помноженные на
неповторимость бывшего – в итоге
дают забвение. Забвения ж блесна —
как зеркало, в котором столь убоги
действительность и то, что так ясна
она в конце пути, и край дороги.
«Если – где? – да где угодно…»