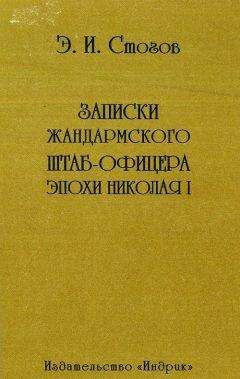Юрий Зобнин - Ахматова. Юные годы Царскосельской Музы
В духе посетителей берлинских Philharmonie и Concerthaus’a семейные завсегдатаи Павловского вокзала возили сюда своих малышей, и для многих, подобно Ахматовой, музыкальные переживания (с позднейшими культурными наслоениями, разумеется, как у неё – из «Идиота» Достоевского и «Le Petit Chose» Альфонса Доде) стали доминантой и кульминацией образа петербургского детства:
В двух словах – в чём девяностые года. – Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и всё прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижёр Галкин – в центре мира.
Посещения концертов именно с маленькими детьми к концу столетия превратились в устойчивую традицию, так что близ Павловского вокзала пришлось устроить специальную детскую площадку. Впрочем, в ожидании концерта можно было прогуляться по близлежащим окрестностям парка, дойти до Розового Павильона и полюбоваться скульптурами Аполлона и муз на площади «Двенадцати дорожек». Никаких сословных ограничений в этом фантастическом музыкально-железнодорожном заповеднике не было, и надменный, прямой и широкоплечий Андрей Антонович Горенко в щегольском чёрном форменном пальто кавторанга, невозмутимо прокладывающий среди вокзальной павловской толпы дорогу своему нарядному семейному выводку, мог столкнуться тут с озабоченным, косноязычным, озирающимся перчаточником Эмилием Вениаминовичем Мандельштамом, самым трогательным отцом в истории большой русской литературы, тянущим за руку важное трёхлетнее чадо:
В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему – тяжёлые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы[109].
Жизнь посылала Ахматовой и её будущим друзьям особые, странные и многомерные знаки, что позволило ей, много лет спустя оглядываясь на свои детские годы, подытожить:
Моё детство так же уникально и великолепно, как детство всех остальных детей в мире, с страшными отсветами в какую-то несуществующую глубину, с величавыми предсказаниями, которые всё же как-то сбывались, или, представьте себе – не сбывались, с мгновеньями, которым было суждено сопровождать меня всю жизнь, с уверенностью, что я не то, за что меня выдают, что у меня есть ещё какое-то тайное существование и цель.
IV
Начало отрочества – Безымянный переулок – Первые книги – Второе лето в Гугенбурге – Знакомство с Тюльпановыми – Болезнь Рики – Зима в Севастополе – Бабушка Ирина Ивановна, Мария и Надежда Горенко – Пиратские истории – Гречанка Ефросинья – Духовное воспитание.
С переездом в дом Шухардиной кончается детство Ахматовой, и начинается отрочество, «взрослое детство», по чудесному выражению нелюбимого ею классика. Внутренне это выразилось в зоркой наблюдательности, которая сменяет фрагментарную импрессионистическую впечатлительность её позднего младенчества. Вместо «пёстрых лошадок», «заколок в виде лиры», «великолепных парусных судов» и «дыма от допотопного паровозика», вырастающих в символические эмблемы целых прожитых месяцев, ахматовская память запечатлела быт царскосельского особняка на углу Широкой и Безымянного, как документальную хронику, мастерски снятую каким-то начинающим виртуозом тогдашнего синема:
Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX века, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, тёмно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зелёном переднике, с мертвенно-бледным, отёкшим лицом запойного пьяницы. Из окна несётся зловещая сапожная вонь. Всё это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.
Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей ещё не было.
По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесён зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами…
Что же касается внешних примет взросления, то они выразились в быстром превращении открытого, активного и радостного существования, соединяющего всех маленьких детей в едином ангельском и неземном обличье, в бытие пробудившейся индивидуальности, весьма непростой, замкнутой и меланхоличной. Ахматова была крайне мечтательным ребёнком и, как это часто бывает с людьми, которым доступна избыточная интенсивность жизни внутренней, – не только не нуждалась в общении с окружающими, но и часто избегала этого общения, как отвлекающей и раздражающей помехи:
А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне…[110]
Самой с собой ей было куда интереснее; послушная фантазия творила из окружающих её людей и вещей удобную для неё реальность, похожую на тот заветный остров, в который обращалась опустевшая бумажная фабрика разорившегося отца для юного героя любимого ею романа Альфонса Доде:
Фабрика была для меня уже не фабрикой: она была моим пустынным – абсолютно пустынным! – островом; бассейны исполняли роль океана, сад был девственным лесом. В платанах жило множество кузнечиков, и они тоже принимали участие в представлении, сами того не подозревая[111].
Впрочем, в отличие от «птишоза» Доде, фантазия юной Ахматовой, по всей вероятности, питалась в это время не столько почерпнутыми из книг образами и положениями, сколько самодеятельными сюжетами, извлекаемыми из собственных недр. История её читательского дебюта достаточно неопределённа:
Читать научилась поздно, кажется семи лет (по азбуке Льва Толстого), но в восемь лет уже читала Тургенева. Первая бессонная ночь – «Братья Карамазовы».
Если вынести за скобки первого десятилетия её жизни «Братьев Карамазовых», то ранние читательские впечатления Ахматовой связаны сначала с «Тремя медведями», «Львом и собачкой», «Булькой», а, затем, – с «Муму» и «Бежиным лугом»:
Вот на днях зовёт приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, – что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясёт; однако он её отпрукал, сел на неё с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, – говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…»[112]
Это вполне стóит, конечно, Робинзона с пиратами и дикарями, но, если учесть намеченную Ахматовой приблизительную хронологию, станет ей доступным лишь года через два-три. А снежной зимой 1894/95 годов Инна Эразмовна в Царском Селе читала детям некрасовские стихи про Мороза-воеводу, обходящего дозором свои владенья, и про злого старика Борея из оды Гаврилы Державина: