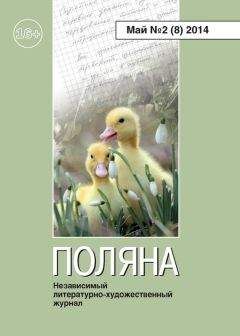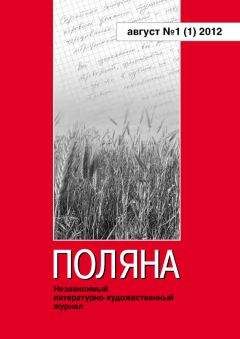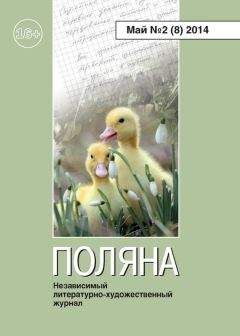Коллектив авторов - Поляна № 1(1), август 2012
Справа от стола холодно поблескивал стеклами книжный шкаф. Книг в нем было немного. На одной из полок выстроились в ряд три небольшие фотографии в пожелтевших картонных рамках: Сталин, Дзержинский, Молотов. Сталин еще не старый, в своем любимом френче, в невысокой фуражке. Он стоял с поднятой рукой на какой-то трибуне, и было непонятно, что там, на заднем плане, где находится эта трибуна – в зале, под открытым небом? Лицо у Сталина было доброе, даже чуть улыбающееся. Но взгляд – острый, каленый. Дзержинский был сфотографирован в профиль. Его мефистофельская бородка падала отвесно. Куда он смотрел? В какую даль? Видел ли там мир без насилия, без тюрем, допросов, расстрелов? Или думал совсем об ином? О другой стороне, где жили его жена, сын? Молотов был в темном костюме, в белой рубашке с галстуком. Похоже, он стоял посреди своего кабинета, и было в его позе нечто нетерпеливое, как если бы он делал величайшее одолжение фотографу, но его терпение почти иссякло. Кругловатое, непроницаемое, будто задернутое тяжелой шторой лицо, победно сияющая лысина, тщательно зачесанные назад волосы. Что за собой таила его мрачность? Неулыбчивый характер? Или недовольство тем, что приходится поступаться очень многим ради вождя? А может, ни то и ни другое?
«Давай по одной», – сказал Колька, и мы выпили. Он был совсем трезвый. Обычно он быстро хмелеет, становится злым, подозрительным. Все ему кажется, что его хотят оскорбить, унизить. И он готов завестись моментально, в долю секунды, сорваться на крик. Но в тот день хмель не брал его. Лицо было задумчиво-скорбным, как будто он все время решал непосильную задачу. «Видишь, как, – проговорил он наконец. – Я был у него в понедельник. Он сказал, что ему лучше. И вот…» Он опять долго молчал. И я молчал. Да я и не знал, о чем говорить. Не утешать же взрослого мужчину, которому за сорок. А повести речь о другом, чтобы отвлечь его, мне казалось бестактным.
«Помнишь, как мы ездили с отцом на Москва-реку?» – с каким-то посветлевшим взором спросил Колька. «Помню», – ответил я, и это была правда. Разве можно забыть полные нестихающего восторга, безмятежной радости поездки на большой черной автомашине по улицам Москвы, по шоссе, а в самом конце по веселому лугу над рекой?
С Колькой мы познакомились в первом классе. Он сидел позади меня. Серьезный, сосредоточенный, он походил на взрослого человека, давно и твердо решившего, что ему надо в жизни. Сам не знаю, почему, но мы с ним приглянулись друг другу. Скоро я уже знал, что он живет в новом красивом доме на проспекте, где у входа почему-то стоит часовой, что у него два брата, один старше, другой младше, что его отец очень сильный и может поднять за бампер легковой автомобиль. Но о своей мечте стать командиром он мне рассказал не сразу. Драться Колька не любил, хотя, если приходилось бывать в стычках, делал это бесстрашно, с каким-то ожесточением. А хитрые приемы, которым обучал его Иван Алексеевич, применял только в крайних случаях.
Я окинул взглядом комнату. Что изменилось с тех пор, как я начал бывать в этом доме? За окном было совсем другое время. Уже признали Отца народов великим преступником, уже нарекли крикливый, бестолковый период нашей истории застойными годами. Шумнее стал проспект Мира. Теперь он суетливо гудел, урчал, грохотал, сотрясая окрестные здания, чадил где-то внизу, под окнами, отравляя и без того худосочный городской воздух. Вот, пожалуй, и все перемены. Хотя, нет. Еще пропал часовой, стоявший у входа.
Просто так в дом не пускали. Направляясь к своему другу, я называл номер квартиры и Колькину фамилию. А взрослым пройти было гораздо труднее. Я долго не мог понять, зачем нужен часовой – это ведь не штаб, не склад с оружием. Но Колька пояснил тихим голосом: «Здесь живут такие люди, которых надо охранять. Чтобы враги ничего не могли сделать». «И твоего отца тоже надо охранять?» «Конечно». – Его удивила моя непонятливость. Порой он приоткрывал плотную завесу над тайной, окружавшей дом. «Начальник личного поезда Сталина, – шепотом говорил Колька, показывая глазами на толстого мужчину с будто растекшейся жирной шеей.
– Кузьма Павлович». «Откуда знаешь?» «Знаю». «Отец сказал?» «Жди, он скажет». А еще через какое-то время: «Витьки Каскова отец. Полковник. За оружие отвечает». «Как отвечает?» «Не знаю… Хранит, наверно». Потом я услышал: «Это шофер Сталина. Василий Семенович… Не смотри на него так». А потом: «Этот сердитый дядька – генерал. Он командует всеми телефонами в Кремле. По ним Сталин говорит». Меня пугали его слова. Когда заходила речь о Сталине, он вспоминался простым, улыбчивым, добрым. Но когда я видел людей, которые охраняют Сталина и других членов правительства, которые делают все-все, что надо самым главным людям страны, веяло чем-то запретным. И мне становилось страшно. Может быть поэтому я не спрашивал у Кольки, чем занимается его отец.
Ивана Алексеевича я увидел не сразу – он почти все время отсутствовал. Но однажды вечером, когда мы с Колькой и его младшим братом играли на полу с автомобильчиками – это были очень красивые, не то американские, не то английские машинки, – вдруг вяло хлопнула дверь, зазвучал в прихожей мягкий мужской голос. Колька сразу вскочил с паркета. Невольно поднялся и я. Минуту спустя плотный, налитый силой мужчина вошел в комнату, хватким взглядом посмотрел на меня, потом на Кольку. «Мы в одном классе учимся», – быстро проговорил тот. Колькин отец сел на кожаный диван, закинул ногу на ногу, поиграл теплой тапочкой. «Как же тебя зовут? – вновь раздался вежливый, округлый голос. – Митя? То есть, Дмитрий. Хорошее имя». Он спросил мою фамилию, где живу, кем работают отец, мать, есть ли братья, сестры. Я отвечал, что живу неподалеку, на Малой Переславке, что отец, Сергей Никанорович, работает в типографии на печатной машине, а мать – бухгалтер в домоуправлении, что есть сестра, но по возрасту она как Сергей, и с ней неинтересно, что с нами живет бабушка, которая совсем ослепла. «Отец воевал?» – спросил он. «Воевал. В пехоте», – гордо ответил я. «Хорошо, – устало сказал он. – Выходит, ты – Дмитрий Сергеевич». Это было смешно. Я улыбнулся и повторил: «Митя». Так мы познакомились.
Потом я не видел его до самого лета, когда он стал приезжать днем на громадной машине, то ли «Бьюике», то ли «Паккарде». Он брал сыновей – Кольку, Виктора, Сергея, – меня, других мальчишек, вез через всю Москву к Рублевскому шоссе, потом за город. Как легко, сильно шла машина. Каким прекрасным казался мир снаружи. Наш пустяковый разговор то вспыхивал, доходя до крика, то затихал. Иван Алексеевич лишь посматривал на нас, прощающе улыбался и молчал. Не могу точно сказать, где расположено то место, куда мы регулярно приезжали. Помню густую траву на берегу, быструю мутновато-лазурную воду Москва-реки. Стояла скучная жара, и лучшего места для игр трудно было найти. Мы устраивали шумную возню, плескались, гоняли мяч. Порой к нам присоединялся Иван Алексеевич. Я видел, с каким удовольствием играл он с нами в футбол, бегал в салочки, а потом вдруг серьезнел, мрачнел, уходил на взгорок, в небольшую рощицу, и водитель, тоже носившийся с нами, провожал его тревожным взглядом.
За дверью стало тихо. Наверно, женщины ушли в кухню. А за окном все еще вздымались привычные звуки большой улицы. Я смотрел на своего друга, уставившегося на стол. В похудевшем Колькином лице было что-то детское, незащищенное. Ни с того, ни с сего у меня закрутились давние-давние слова, незатейливый мотивчик. «Помнишь песенку про Берию?» – спросил я. «Какую?» – блекло удивился Колька, и мне стало стыдно, что я в такой вечер спрашиваю о глупостях. «Какую песенку?» – повторил Колька. Я сконфуженно произнес: «Мы ее тогда распевали, в пятьдесят третьем. Берия, Берия, потерял доверие. Не хотел ты жить в Кремле, полежи в сырой земле. Дурацкие слова». «Помню», – без всяких эмоций сказал Колька и опять взялся за бутылку. Мне больше не хотелось водки, но разве откажешься в такой ситуации.
«Отец почти ничего не рассказывал. – Колька упрямо смотрел вниз. – Ну, о своей работе. А тут недавно, когда мы были вдвоем, говорит: “Сейчас вот стали писать про следователей, которые применяли пытки для получения нужных показаний. А знаешь, я чуть было не перешел на такую работу. В сорок седьмом году. Узнал, что в одном следственном управлении место освободилось. Решил попробовать перейти – там и зарплата была больше, и работа, как мне казалось, поинтереснее. Заместителя начальника управления знал хорошо. Мы вместе служили перед войной. Заглянул к нему в управление, говорю: так и так. Помоги. Он посмотрел на меня как-то грустно, потом отвечает: «Помочь можно. Но, как говорится, семь раз отмерь. Ты приезжай ко мне вечерком. Посидим, потолкуем». Заехал я к нему вечером. Выпили. Он мне говорит: «Иван, я тебя давно знаю. Послушай меня, старого друга. Я тебе не советую к нам переходить. Объяснять не буду. Но поверь. Если бы мог, сам бы ушел». Я его послушался. А в пятьдесят четвертом моего приятеля посадили на восемь лет. Еще повезло. Некоторых расстреляли”. Так вот. Отец мог пострадать вместе с другими. Все из-за этого, Берии чертова. Или опять будешь его защищать?» – Колька глянул на меня и сердито сжал узкие губы. Я не стал затевать дискуссию.