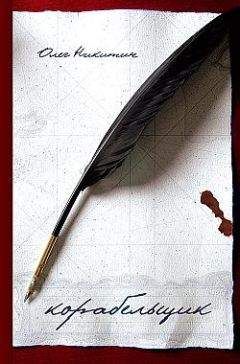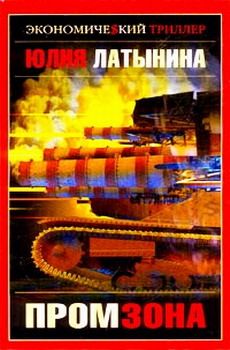Харри Мартинсон - Аниара
14
На корабле возникла секта «терок».
Собравшиеся члены трут друг друга.
Здесь больше женщин, но глава — мужчина,
который называется «терпуг».
(Словечко из доголдонских времен.)
Все это связано с понятьем «пища», «кухня»,
где пищу помещали на огонь.
Так объясняет «Голубой архив».
Вот все, что я узнал.
Когда-то в школе, я припоминаю,
показывали нам живое пламя.
Горело деревянное полено:
возник огонь и появился дым
и вроде бы тепло.
Полено тут же опустили в воду,
веселый и живой огонь погас.
Деревья — редкость. Много их росло
в доголдонское время, но позднее
их погубила радиоактивность.
Смотрели мы, дыханье затая,
как дерево рождало теплый свет.
Какая даль, какая это даль.
15
Я отключаю Миму, обхожу
корабль, прислушиваясь к разговорам.
Вот начинает старый космонавт
рассказ о Нобби — о своей любви.
— Малышка Нобби не была казиста —
она болела лучевой болезнью,
схватив три дозы, чуть не померла.
Врачи ее выхаживали долго
и гаммосалем, и ТЭБЭ-лучами.
Пробыв не год, не два в палатах скорби
больничного барака Тундры-2,
дешевеньким голдондером вернувшись
на Землю, стала Нобби жить, как прежде,
устраивая всяческую помощь
нуждавшимся на Марсе и Венере.
Народ на Марсе гробят холода,
а на Венере — сырость и болота.
Моя худышка просто извелась,
не говорила ни о чем другом.
А я — я думал о своей зазнобе:
как в Тундру-2 я прилетал, как с Нобби
гуляли и мечтали мы вдвоем.
Я был тогда на «Максе» новичком.
Наш барк ходил вначале на Венеру,
но брошен был возить на шарик тундр
переселенцев с ихним обустройством.
Окончилась война тридцать вторая,
вовсю внедрялся третий план контроля.
Конечно, выборы и новый Дик на троне,
а по подвалам — пряники для тех,
кто улизнул от выборов в кусты.
Исправившийся получал рюкзак,
прогулочку в голдондере-тюрьме,
три года торфоразработок в Тундре-9.
Паршивей места просто не нашлось
на целом Марсе. Я там был разок.
Но это все — наружность. Изнутри
куда страшнее этот «план контроля»,
поскольку доброта на перфокартах
засчитывалась, как огромный минус,
жестокость получала перевес
над затаенным даром к состраданью.
Плутали мы по зарослям контроля.
Но мимы — молодчаги: содержали
такую гору сведений в порядке!
Ведь всяк играл по три-четыре роли,
затеявши спасительные прятки.
16
Людской поток проглатывают двери.
Из-за дверей я слышу смутный гул.
В нем — смесь надежд, отчаяний, безверии.
Но гул помалу в песне потонул.
Мистическая песнь твердит сурово,
что могут огнестойкость даровать
виденья, поставляемые Мимой,
и пустота космических пространств.
- Приди, прекрасный век, чугунный век,
сжирайте все живое, огнь и хлад, —
не покорится гордый человек.
Приди, прекрасный век, чугунный век.
Гул побеждает. Все уходят к Миме,
стенают там, как пред стеною плача,
покуда из таинственных миров
не поднесут им сладостный улов.
Блаженный брег поймала как-то Мима,
и блеск его нас долго утешал,
потом блаженный мир промчался мимо:
другим далеким миром послан вал,
унесший прочь блаженное виденье.
Бессильна Мима против мрачных теней.
И снова охватило всех смятенье.
17
Поднаторев в нырянье в глубину,
ты любишь глубиною козырять,
но здесь твоим уменьям грош цена:
здесь нет глубин и некуда нырять.
Мы видим мнимую величину
твоих заслуг, ныряльщик в глубину.
В кристалле этим славы не стяжать:
ты думаешь, что истинно нырнул,
а крутишься на месте все равно.
И уважать твои нырки смешно.
А мудреца не манит глубина,
ныряет он, но цель его ясна,
нырнет — и возвращается назад
и сразу же снимает свой наряд,
что мудрость припасла для променад.
Его конкретно интересовало
то облако из белого металла,
единственное в этих небесах,
которое, сияя белизной,
застыв беззвучно, с быстротой такой
летит, что испугается любой,
лишь заикнись, как быстро день за днем
мы к Лире мчимся вместе с кораблем.
Я должен был проверить блоки Мимы
и вышел в космос, что необходимо.
И с расстоянья в восемь километров
мощь Аниары стала мне ясней.
В немыслимой дали от долов Дорис
побитая лодчонка, хорохорясь,
на Лиру от космических гвиней
влачится, зубом времени полна.
Наш груз весомее слоновьих бивней.
На этот груз поставил метку «символ»
недосягаемый враждебный мир.
Без груза был бы бег результативней.
18
То мысленно на волю мы бежим,
то от одной мечты скользим к другой —
тем и живем сейчас.
И животворные порывы чувств,
и полная бесчувственность равно
спасают нас.
Забыв ответ, в вопросы углубиться,
забыв про жизнь, в мечтаниях обжиться,
забыв движенье, по мирам кружиться —
так учит аниарская темница.
19
И обитель Мимы женщина-пилот
вошла. Без слов махнула мне рукой —
и я включаю Миму.
Как независим наш пилот, как неприступен,
а ранит побольнее всякой розы,
хотя и не — как говорят — шипами.
Нет, роза ранит лишь самой собой,
бывает, что поранишься колючкой,
но чаще ранит просто красота,
своим огнем пронзая, как шипом.
А Дорис на шестом году полета,
как звездочка далекая, блестит,
как искорка, застрявшая в глазу,
и колет сердце золотой иглой
сквозь космос одуряюще-прозрачный.
Вблизи она светила, но не жгла.
Чем дальше Дорис — тем острей игла.
Включаю Миму я, сажусь и жду:
сейчас произойдет преображенье,
лицо у женщины-космопилота
засветится, обрушится стена,
скрывающая жизнь ее лица.
Проявится пред Мимой все, что скрыто.
И вот лицо сияет и пылает,
а голову кружит небесный хмель:
ведь жажда недоступного огромна,
а космос так богат недостижимым!
Она, как бы в объятиях богов,
растерянно, восторженно смеется.
Она в блаженстве. Вдруг переменился
знак фокуса у третьего вебена.
Волна другого мира вторглась в Миму.
Красавица бледнеет на глазах.
Стоп, Мима. Утешай, но не терзай.
Не нужно здесь показывать миры,
похожие на брошенную Землю.
Безвыходностями, в которых мы
запутались, бродя в долинах Дорис,
не стоит эту женщину томить.
И для нее я выключаю Миму.
Ведь Мима честно тащит на экран,
не разбирая, все, что попадется.
Красавица кивком благодарит:
она мою заботу оценила.
С порога обернувшись, молча просит
позвать ее, когда поймает Мима...
Я понимаю эту речь без слов.
О теплой Дорис, о прекрасной Дорис,
далекой Дорис, о звезде всех звезд,
теперь осталось только тосковать.
И не поймешь, в которой стороне
мерцаешь ты, средь звезд неразличима
теперь, когда прошло пять лет полета.
О Дорис, драгоценная звезда.
20
Теперь мы одного хотим от Мимы:
чтоб из долины пролетевших волн
летели к нам далекие картины
давно минувших радостей и бед.
Путем неоднократных отражений —
природа их для нас непостижима —
волна изображений мчит сквозь космос,
и вести всех миров к нам поступают.
Приходят злые вести непрерывно.
Но о добре вестей почти что нет,
добро не предприимчиво по сути,
оно струит всегда один и тот же свет.
21
Мечтатели мечтают, а сомненье
съедает их мечты, как кислота,
но в Миме сохраняются виденья,
их теплая живая красота.
Я консервирую все, что походит
на жизнь и утешеньем отдает.
Когда по кораблю тревога бродит,
когда тоска терзает людям нервы —
мы с Мимой подаем мечты-консервы.
22