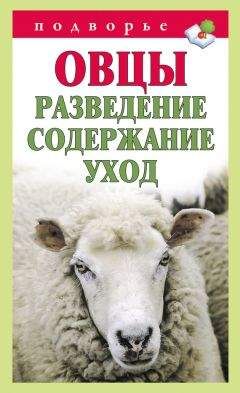Дмитрий Воденников - Обещание
4
Они, как мелкие, всегда вдвоем, втроем,
иначе как под кожу заберутся
(а вдруг мы, как в шкатулке, им противны,
и, сверху наблюдая наши спинки,
они уж лучше друг над дружкой надсмеются,
такой устроят, знаешь ли, содом).
5
Но если, Поля, все они меня оставят,
какой я буду легкий и прозрачный,
и можно всех во мне растлить или убить.
Так как же быть с любовницей иначе,
чем их судьбой себе живот набить?
6
Вот мой стишок вертится, как волчок,
их, шатких, жутких их цепляя на крючок
(а если он шиповником ветвится
иль будто тесто толстое растет).
Придет любовник, схватит за бочок:
Попробуй сам теперь собою насладиться.
Октябрь – 31 декабря 1995 г.
ТРАМВАЙ И ДРУГИЕ
* * *
Не страсть страшна, небытие – кошмар.
Мне стыдно, Айзенберг, самим собою быть.
Вот эту кофту мне подельник постирал,
а мог бы тоже, между прочим, жить.
Я быть собою больше не могу:
отдай мне этот воробьиный рай,
трамвай в Сокольниках, мой детский ад отдай
(а если не отдашь – то украду).
Я сам – где одуванчики присели,
где школьники меня хотят убить —
учитывая эту зелень, зелень,
я столько раз был лучше и честнее,
а столько раз счастливей мог бы быть.
Но вот теперь – за май и шарик голубой,
что крутится, вертится, словно больной,
за эту роскошную, пылкую, свежую пыль,
за то, что я никого не любил,
за то, что баб Тату и маму топчу —
я никому ничего не прощу.
Я все наврал – я только хуже был,
и то, что шариком игрался голубым,
и парк Сокольники, и Яузу мою,
которую боюсь, а не люблю, —
не пощади и мне не отдавай
(весь этот воробьиный, страшный рай).
Но пощади – кого-нибудь из них,
таких доверчивых, желанных, заводных.
Но видишь ли, взамен такой растрате
я мало что могу тебе отдати.
Не дай взамен – жить в сумасшедшем доме,
не напиши тюрьмы мне на ладони.
Я очень славы и любви хочу.
Так пусть не будет славы и любви,
а только одуванчики в крови.
О Господи, когда ж я отцвету,
когда я в свитере взбесившемся увяну —
так неужель и впрямь я лучше стану,
как воробей смирившийся в грозу?
Но если – кто-нибудь – всю эту ложь разрушит,
и жизнь полезет, как она была
(как ночью лезут перья из подушек),
каким же легким и дырявым стану я,
каким раздавленным, огромным, безоружным.
1996
* * *
Евгению Ш., Соколову, Кукулину
и другим моим друзьям
Куда ты, Жень, она же нас глотает,
как леденцы, но ей нельзя наесться.
(Гляди, любовниками станем в животе.)
Так много стало у меня пупков и сердца,
что, как цветочками, я сыплюсь в темноте.
Я так умею воздухом дышать,
как уж никто из них дышать не может.
Ты это прочитай, как водится, прохожий,
у самого себя на шарфе прочитай.
Когда ж меня в моем пальто положат —
вот будет рай, подкладочный мой рай.
Я не хочу, чтоб от меня осталось
каких-то триста грамм весенней пыли.
Так для чего друзья меня хвалили,
а улица Стромынкой называлась?
Из-за того, что сам их пылью мог дышать,
а после на ходу сырые цацки рвать —
ботинкам розовым и тем со мною тесно.
Я бил, я лгал, я сам себя любил
(с детсада жил в крови ужасный синий пыл),
но даже здесь мне больше нету места.
Я не хочу в Сокольниках лежать.
Где пустоцветное мое гуляет детство,
меня, как воробья в слюде, не отыскать.
Но вот когда и впрямь я обветшаю —
искусанный, цветной, – то кто же, кто же
посмеет быть, кем был и смею я?
За этот ад – матерчатый, подкожный —
хоть кто-нибудь из вас – прости, прости меня.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ
Не может быть, чтоб ты такой была:
лгала, жила, под тополем ходила,
весь сахар съела, папу не любила
(теперь – и как зовут меня – забыла),
зато, как молодая, умерла.
Но если вдруг – все про меня узнала?
(хотя чего там – углядеть в могиле –
да и вообще: все про могилы лгут,
то, что в пальто, не может сыпать пылью,
ботинки ноги мертвому не жмут).
Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем,
давайте соберемся и поедем,
мои товарищи, ужасные соседи
(но только если всех туда возьмем) —
в трамвайчике веселом, голубом.
Сперва помедленней, потом быстрей, быстрей
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо —
трамвай, медведь, голубка, воробей.
Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее
(но зелень пусть бежит еще быстрее,
она от туч сиреневых в цвету,
она от жалости еще темнее) —
и мимо праздника и мимо Холидэя
(теперь о нем и думать не могу)
летит трамвай, свалившийся во тьму.
Хотя б меня спаси, я лучше быть хочу
(но почему я так не закричу?),
а впереди – уже Преображенка.
Я жить смогу, я смерти не терплю,
зачем же мне лететь в цветную тьму
с товарищами разного оттенка,
которых я не знал и не люблю.
Но мимо магазина, мимо центра
летит трамвай, вспорхнувший в пустоту.
Так неужель и ты такой была:
звала меня и трусостью поила,
всех предавала, всех подруг сгубила,
но, как и я, краснея, умерла.
Но если так, но если может быть
(а так со мной не могут пошутить),
моих любовников обратно мне верни
(они игрушечные, но они мои, мои!)
и через зелень, пыльную опять
(раз этих книжек мне не написать), —
с ВДНХ – подбрось над головой —
трамвай мой страшный, красный, голубой...
Май, конец июля – 2 августа 96
ТРАМВАЙ
Баранов, Долин, я, Шагабутдинов,
когда мы все когда-нибудь умрем —
мы это не узнаем, не поймем
(ведь умирать так стыдно, так обидно),
зато как зайчики, ужасные соседи
мы на трамвае золотом поедем.
Сперва помедленней, потом быстрей, быстрей
(о мой трамвай, мой вечный Холидэй) —
и мимо школы, булочной, детсада —
трамвай, которого мне очень надо —
трамвай, медведь, голубка, воробей.
Уж я-то думал, я не упаду,
но падаю, краснея на лету,
в густой трамвай, который всех страшнее,
а он, как спичка, чиркнув на мосту
несется, заведенный в пустоту
(куда и заглянуть теперь не смею),
с конфеткой красной, потной на борту.
Но вот еще, что я еще хочу
(хоть это никогда не закричу) —
а позади уже бежит Стромынка:
обидно мне, что, падая во тьму,
я ничего с собою не возьму —
ни синяка, ни сдобы, ни ботинка,
ни Знаменку, ни рынок, ни Москву.
А я люблю Москву – и вот, шадабиду,
я прямо с Пушки в небеса уйду,
с ВДНХ помашет мне Масловский.
Но мой трамвай, он выше всех летит,
а мне все жаль товарищей моих,
и воробьих, и воробьев московских.
Ах, если бы и мне ты тоже мог бы дать
на час – музеи все, все шарики отдать,
все праздники, всех белых медведей —
все, что бывает у других людей
и что в один стишок не затолкать
(ведь даже мне всей правды не сказать), —
тогда, ах если бы (иначе я боюсь),
тогда Барановым и Долиным клянусь:
что без музеев (из последних сил
я в них всегда, как сирота, ходил),
без этих шариков, которые всегда
от нас не улетали никуда —
без них без всех – я упаду во тьму
и никого с собой – не утяну.
Конец июля – 20 октября 96
* * *
Даниле Давыдову
Мне стыдно оттого, что я родился
кричащий, красный, с ужасом – в крови.
Но так меня родители любили,
так вдоволь молоком меня кормили,
и так я этим молоком напился,
что нету мне ни смерти, ни любви.
С тех самых пор мне стало жить легко
(как только теплое я выпил молоко),
ведь ничего со мною не бывает:
другие носят длинные пальто
(мое несбывшееся, легкое мое),
совсем другие в классики играют,
совсем других лелеют и крадут
и даже в землю стылую кладут.
Все это так, но мне немножко жаль,
что не даны мне счастье и печаль,
но если мне удача выпадает,
и с самого утра летит крупа,
и молоко, кипя или звеня,
во мне, морозное и свежее, играет —
тогда мне нравится, что старость наступает,
хоть нет ни старости, ни страсти для меня.
* * *
Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей.
О, как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.
А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы, и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).
Но почему ж тогда себя так жалко-жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь – меня.
ВЕСЬ 1997