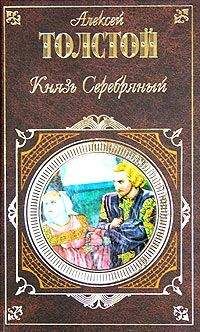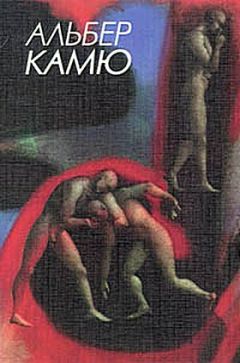Евгений Евтушенко - Окно выходит в белые деревья...
«Ничто не сходит с рук…»
Ничто не сходит с рук:
ни самый малый крюк
с дарованной дороги,
ни бремя пустяков,
ни дружба тех волков,
которые двуноги.
Ничто не сходит с рук:
ни ложный жест, ни звук —
ведь фальшь опасна эхом,
ни жадность до деньги,
ни хитрые шаги,
чреватые успехом.
Ничто не сходит с рук:
ни позабытый друг,
с которым неудобно,
ни кроха муравей,
подошвою твоей
раздавленный беззлобно.
Таков проклятый круг:
ничто не сходит с рук,
а если даже сходит,
ничто не задарма,
и человек с ума
сам незаметно сходит…
«Травка зеленеет…»
Вл. Соколову
Травка зеленеет,
солнышко блестит.
Боль моя умнеет —
громко не грустит.
Сосны шелушатся.
Время, стало быть.
В это не вмешаться,
не остановить.
Старый мой товарищ,
ты со мной давно
в споры не встреваешь —
просто пьешь вино.
Я ценю за это
доброту твою.
Никаких советов
тоже не даю.
Если в жизни туго,
поучать грешно.
Улучшать друг друга —
это же смешно.
Что-то не свершилось,
нам обоим снясь,
и отшелушилось
незаметно с нас.
Что тебя так давит,
что невесел, квел?
Шелуха спадает —
остается ствол.
Есть еще опушки,
где грибов не счесть.
Есть Россия, Пушкин,
наши дети есть.
Есть на соснах белки,
солнышко в окне,
что-то на тарелке
и чуть-чуть на дне.
В мире, нас отуманившем
рознью, будто бы одурью,
быть со старым товарищем —
как вернуться на Родину.
Мы друг друга не предали,
хоть и жили так розно.
Две судьбы — две трагедии.
Все трагедии — сестры.
Ты сутулый и худенький.
Ты, как я, безоружен,
и прекрасен на кухоньке
холостяцкий наш ужин.
Никакая не исповедь,
никакая не проповедь.
Просто все можно высказать,
надо только попробовать.
Я гляжу на товарища
с чистотой изначальной.
Для других — тарабарщина —
разговор двупечальный.
Дружбу мы не утратили,
хоть и было нетрудно.
Миллионы приятелей
означают — нет друга.
Зрелость зряшно не мечется.
Кто созрел, тот не алчет
мыслить слишком космически,
словно мальчик-глобальчик.
Что глобальничать суетно,
шумно, вроде Петрушки?
Как-то хочется сузиться
до огромности дружбы
не с абстрактною вечностью,
не с абстрактным земшаром,
не вообще с человечеством,
а с товарищем старым.
И среди всякой низости,
изощренно лукавой,
чувство истинной близости
несравнимо со славой.
В дружбе не надо пешек,
в дружбе не надо ферзей,
но танцевать, как от печек,
надо всегда от друзей.
И безо всяких «надо»,
просто, без ничего,
дружба — не чувство стада, —
чувство себя самого.
Люди сильны друг другом.
Да не обманет их
лезущий вверх по трупам
бывших друзей своих.
Люди сильны друг другом.
Чтобы с друзьями срастись,
не обязательно цугом,
холкою в холку плестись.
Люди сильны друг другом,
спаянностью несходств,
а не безличным хрюком, —
ибо они не скот.
Люди сильны друг другом,
так, словно Севером — Юг,
так, словно пахарь — плугом,
так, словно пахарем — плуг.
Люди сильны друг другом.
Что равнодушья мерзей?
Люди сильны испугом
вдруг потерять друзей.
В битвах и перед казнью
или на Млечном Пути
люди сильны боязнью
в чем-то друзей подвести.
В лица друзей каменья —
это по морде себе.
Люди сильны неуменьем
друга предать в беде.
Сколько утрат у России, —
водкою их не запить!
Люди сильны бессильем
мертвых друзей забыть.
У ТЕЛЕФОНА-АВТОМАТА
Возле гагринского пыльного сквера,
возле гипсового старца-пионера,
в автомате: «Приезжай, ты слышишь, Вера?»
телефон целуя — странная манера! —
этот пьяный гражданин кричал, хрипя.
Брел я ночью и шептал у поворота,
заглядевшись на рубины самолета:
«Пусть ко мне приедет вера во что-то,
пусть ко мне приедет вера в кого-то,
пусть ко мне приедет вера в себя».
О, ТОЛЬКО БЫ НЕ ПРИВЫКНУТЬ
О, только бы не привыкнуть
к Господнему чуду глаз
и в тысячный раз приникнуть
к губам, словно в первый раз!
Привычка со скукой на морде,
со спичкою в дуплах зубов,
как пресное море — не море,
привычка — уже не любовь.
Пусть лучше не вместе, а порознь,
но только не задави,
привычки товарный поезд,
живого ребенка любви!
«Жизнь, ты бьешь меня под вздох…»
Жизнь, ты бьешь меня под вздох,
а не уложить.
Я до девяноста трех
собираюсь жить.
Через сорок три годка —
потерпи, казак! —
вряд ли станет жизнь сладка,
но кисла не так.
Будет сорок семь тебе,
мой наследник Петр,
ну а батька в седине
все же будет бодр.
Будет он врагов бесить,
будет пить до дна
и на девочек косить
глазом скакуна.
Будет много кой-чего
через столько лет.
Результатец — кто кого —
будет не секрет.
Встретят улицы и рю
общую зарю.
Я в Мытищах закурю,
в Чили докурю.
Телевизор понесут
под колокола
на всемирный Страшный суд
за его дела.
Уничтожат люди рак,
бомбу, телефон.
Правда, выживет дурак,
но не так силен.
Зажужжат шкивы, ремни.
Полный оборот —
и машина времени
Пушкина вернет.
«Бессердечность к себе — это тоже увечность…»
Бессердечность к себе —
это тоже увечность.
Не пора ли тебе отдохнуть?
Прояви наконец сам к себе человечность —
сам с собою побудь.
Успокойся.
В хорошие книжки заройся.
Не стремись никому ничего доказать.
А того, что тебя позабудут, не бойся.
Все немедля сказать —
как себя наказать.
Успокойся на том,
чтобы мудрая тень Карадага,
пережившая столькие времена,
твои долгие ночи с тобой коротала
и Волошина мягкую тень привела.
Если рваться куда-то всю жизнь,
можно стать полоумным.
Ты позволь тишине
провести не спеша по твоим волосам.
Пусть предстанут в простом освещении лунном
революции,
войны,
искусство,
ты сам.
И прекрасна усталость, похожая на умиранье, —
потому что от подлинной смерти она далека,
и прекрасно пустое бумагомаранье —
потому что еще не застыла навеки рука.
Горе тоже прекрасно,
когда не последнее горе,
и прекрасно, что ты
не для пошлого счастья рожден,
и прекрасно какое-то полусоленое море,
разбавленное дождем…
Есть в желаньях опасность
смертельного пережеланья.
Хорошо ничего не желать,
хоть на время спешить отложив.
И тоска хороша —
это все-таки переживанье.
Одиночество — чудо.
Оно означает — ты жив.
«Я не играю в демократа…»