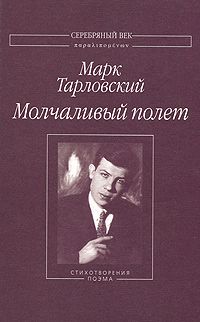Илья Эренбург - Избранное
1948(?)
282. «Был тихий день обычной осени…»
Был тихий день обычной осени.
Я мог писать иль не писать:
Никто уж в сердце не запросится,
И тише тишь, и глаже гладь.
Деревья голые и черные —
На то глаза, на то окно, —
Как не моих догадок формулы,
А всё разгадано давно.
И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листы,
Давно истоптаны, поруганы,
И всё же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово — невпопад.
Они живут, но не написаны,
Они взлетели, но молчат.
1957
283. «Ошибся — нужно повторить…»
Ошибся — нужно повторить:
Ребенка учат говорить.
К чему леса? К чему трава?
Пред ним дремучие слова,
И он в руке зажать готов
Добычу дня — охапку слов.
До смерти их не перечесть.
А попугай — тот любит есть,
А водолей — тот воду льет,
И человек средь слов живет.
Кто открывал, и кто крестил,
И кто кого когда любил?
Ведь он не нов, ведь он готов,
Уютный мир заемных слов.
Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груду слов —
Ведь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Как ни хвали, как ни пугай,
Молчит облезший попугай, —
Слова ушли, как сор, как дым,
Он хочет умереть немым.
1957
284. «Есть надоедливая вдоволь повесть…»
Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
Она особенно скулит средь ночи,
Когда никто с ней говорить не хочет,
Когда подсчитаны давно балансы
И оттанцованы и сны и танцы,
Когда глаза, в которых жизнь поблекла,
Похожи на замызганные стекла
Большого недостроенного дома,
Где всё необжито и всё знакомо.
Она скулит, что день напрасно прожит
И что никто не лезет вон из кожи,
Что убивают лихо изуверы
И что вздыхают тихо маловеры.
Она скулит, никто ее не слышит —
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело.
И это всем смертельно надоело.
1957
Нагасаки
285. «Ты помнишь, жаловался Тютчев…»
Ты помнишь, жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
Ты не пытался думать — лучше
Чужая мысль, чужая ложь.
Да и к чему осьмушки мысли?
От соски ты отвык едва,
Как сразу над тобой нависли
Семипудовые слова.
И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.
1957
286. «В их мире замкнутом и спертом…»
В их мире замкнутом и спертом
И логика была простой,
Она была того же сорта,
Что окрик часового: «Стой!»
«Стой!» — и построй себе жилище,
«Стой!» — и свивай себе уют,
«Стой!» — и работай ради пищи,
Живи, как прочие живут.
Да кто вы? Люди или птицы?
Сыны богов или кроты?
«Мы? Жители. Жильцы, жилицы,
Квартиросъемщики. А ты,
А ты, что вечно споришь с веком?»
— «Я был собою до конца:
Неполноценным человеком,
Пытавшимся поджечь сердца».
«Ну как, поджег? — И все смеются,
Все полноценны и тихи: —
Прошла эпоха революций.
А сколько платят за стихи?»
1957
287. «Я смутно помню шумный перекресток…»
Я смутно помню шумный перекресток,
Как змей клубок, петлистые пути.
Я выбрал свой, и всё казалось просто:
Коль цель видна, не сбиться и дойти.
Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу ту ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.
Один косился на другого, мучил
Молчанием, томила сердце тень,
Что рядом шла, — не друг и не попутчик,
А только тень.
Ни зелень деревень,
Ни птицы крик нам не несли отрады.
Страшнее переходов был привал.
Порой один, чуть покачнувшись, падал,
Все дальше шли, он молча умирал.
Но, кажется, и в час предсмертной стужи,
Когда пойму — мне больше не идти,
Нахлынут нежность, гордость, грусть и ужас
При памяти о пройденном пути.
1957
288. «Есть в севере чрезмерность, человеку…»
Есть в севере чрезмерность, человеку
Она невыносима, но сродни —
И торопливость летнего рассвета,
И декабря огрызки, а не дни,
И сада вид, когда приходит осень:
Едва цветы успели расцвести,
Их заморозки скручивают, косят,
А ветер ухмыляется, свистит,
И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.
1957
289. ДОЖДЬ В НАГАСАКИ
Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.
Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба,
Будет приправой тоска и долгая злоба,
Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы.
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,
Будут кусаться и выть молчальники карпы,
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,
Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест,
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки,
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!
Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах, —
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,
Здесь о другом — о простой человеческой жизни.
Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет.
1957
290. ТОВАРИЩАМ
В любой трущобе, где и камню больно,
В Калькутте душной, средь ветров Стокгольма,
В японском домике, пустом до страха,
Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте,
У Миссисипи, где и снам не выжить,
В заласканном, заплаканном Париже,
И в брюхе птицы, прорезавшей небо, —
Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы —
Я вижу их, я узнаю их сразу,
Не по затверженным знакомым фразам, —
По множеству примет, едва заметных,
По хмурости и по усмешке светлой,
По мужеству, по гордости, по горю,
Которых не унять, не переспорить,
И по тому, как промолчат о главном,
Как через силу выговорят «ладно»,
Как не расскажут про беду и смуту
И как доверчиво пожмут мне руку.
Я с ними в сговоре — мы вместе жили,
В одно мы верили, одно любили,
И пуд мы съели — не по нашей воле —
Такой соленой, что не скажешь, соли.
Суровый, деловой и всё же нежный
Огромный заговор одной надежды.
1957
291. СПУТНИК
Есть нечто милое в самом том слове
С далеких, незапамятных времен,
Хоть многим кажется, что это — внове,
Хоть ошарашен мир и окрылен.
Не знаю, догадаются, поймут ли,
Увидев искру в голубой дали,
Какой невидимый и близкий спутник
Уж сорок лет кружит вокруг Земли.
В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы сухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
Что испытал он, в спехе пролетая,
Запущен рано, нестерпимо нов,
Над горем стародавнего Китая,
Над голодом бразильских пастухов?
Его боялись на допросе выдать,
Он был судим, и был он осужден.
Я помню, пролетал он над Мадридом,
И люди улыбались: это — он!
Он осветил последние минуты
Заложников, он мчался вкруг Земли,
Его видали тени Равенсбрука,
Индийцы разговоры с ним вели.
Он вспыхивал и пропадал надолго,
Никто его путей не объявлял,
Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.
Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение средь звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли…
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.
1957