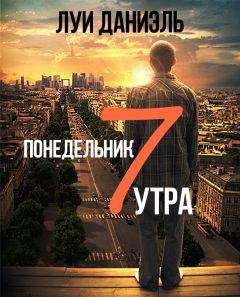Александр Амфитеатров - Отравленная совесть. Роман
Верховская резко обернулась к нему:
— Кто вам сказал, что я не сплю по ночам?
— Степан Ильич, конечно.
Людмила Александровна закусила губу; щеки ее разгорелись, глаза забегали…
— Степан Ильич сам не знает, что говорит. Ему нравится воображать меня больной и в своих заботах о моем здоровье он так скучен, так надоедлив…
— Но зачем же горячиться, Милочка? — остановила ее Елена Львовна.
Синев, который нахмурился было, расправил брови, махнул рукою и засмеялся.
— Вот-с, не угодно ли вам полюбоваться? — пожаловался он полушепотом Сердецкому. — Теперь она со мною всегда этак-то, в таком милом тоне.
Людмила Александровна услыхала и подошла к ним.
— Что вы сочиняете? — искусственно удивилась она.
Синев даже руками всплеснул:
— Сочиняю? Нет извините. Жаловаться так жаловаться. Мне от вас житья нет. Вы на меня смотрите, как строфокамил на мышь пустыни: ам! — и нет меня!.. Главное, ума не приложу: за что?.. Ведь я невинен, как новорожденный кролик! Думал сперва: за Митю. Каюсь, Аркадий Николаевич, — виноват: поддразнивал Вениамина Людмилы Александровны. Липочка вздумала, видите ли, строить ему глазки… ну, как же было мне не распустить язык по такому соблазнительному случаю?
Людмила Александровна обрадовалась, что он сам подсказывает ей путь, как выйти из затруднения.
— А мне было неприятно, — мальчик впечатлительный, с мягким сердцем, увлекающийся… — уже кротче заметила она. — Зачем портить его? волновать его воображение, вбивать в голову Бог знает что…
— Кузина! Вы имеете резон. Но я вам давным-давно принес публичное покаяние по этой части и вот уже два месяца, как держу свой язык на привязи. Больше того: сам же усовещивал Липу, чтобы она не совращала юношу с тропы классического благоразумия… Олимпиада Алексеевна! неувядаемая тетушка! — вскричал он, — пожалуйте сюда. Засвидетельствуйте, какими филиппиками громил я вас в последний раз, за завтраком…
— И сколько красного вина при этом выпил! ужас! — откликнулась Ратисова.
— Ага! Вы слышали, афиняне?! Помилуйте! До того ли мне теперь? Что мне Гекуба и что я Гекубе? Ревизановское дело поглотило меня целиком, как кит Иону.
Олимпиада Алексеевна зажала уши:
— Ах, ради Бога, не надо об этом деле… его слишком, слишком много в этом доме.
Людмила Александровна ответила ей мертвым, потерянным взглядом:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Олимпиада Алексеевна права, — вмешалась Елена Львовна. — Я вполне понимаю, что смерть человека, издавна знакомого, да еще такая внезапная — ведь кажется, он еще накануне обедал у вас, господа? — может на некоторое время выбить круг его друзей и знакомых из обычной колеи. Но всякому интересу бывает предел; иначе он переходит уже в болезненную нервность…
— И ее-то вы находите во мне? — засмеялась Верховская. — Успокойтесь: дело меня интересует, но не до такой степени, как вы воображаете.
— Ну, это — как тебе сказать? — усомнилась Ратисова. — Оглянись: твой дом полон этим делом; я видела твои газеты; ты отметила в них красным карандашом все, что касается ревизановского убийства. Знакомые приезжают к вам словно для того только, чтобы говорить о Ревизанове; о чем бы ни начался разговор, ты в конце концов сводишь его к этой ужасной теме.
Людмила Александровна спокойно возразила:
— Однако сейчас свела его ты, а не я. А интересом к этому делу меня заразил Петр Дмитриевич. Сам же он, на первых шагах, все советовался со мною.
— Что правда, то правда, — слегка смутился Синев.
«Эта толстая Олимпиада, в сущности, права, — размышлял Сердецкий, едучи от Верховских к себе на Девичье поле. — Ревизановского убийства слишком много в доме моих славных Верховских. Не знаю, какое отношение могут они иметь к этому грустному событию, но какое-то есть. Так подробно и постоянно не интересуются совершенно чужим делом. Людмила Александровна как будто что-то знает и скрывает… Что же, однако?»
И Сердецкий, наедине с самим собою, расхохотался:
— Уж не она ли, эта таинственная незнакомка, этот bravo в юбке, как пишут в газетах?.. Ха-ха-ха!.. Вот была бы история!.. и — главное — как это на нее, прелестную мою, похоже! Придет же в голову такая нелепость… хотя бы даже и в шутку. Но что-то она прячет в себе — прячет от всех, даже… даже от меня. И что-то тяжелое, скверное, ядовитое… Жаль ее, бедную, жаль!.. Эх, судьба, судьба!.. В подобные минуты мне как-то особенно грустно, что она развела нас с такою обидною бестолковостью. Как-то кажется: вот была бы Людмила моею, — ничего бы дурного и грустного и не было… А ведь — как знать? Может быть, и еще хуже было бы. Самоуверенничать-то нечего… Молчи, старик, притихни!.. Эх-эх-эх! когда же я, старый черт, любить-то ее перестану?
XXVIII
Дни бежали. Елена Львовна уехала обратно в деревню, не добившись толку от племянницы и простясь с нею за это довольно холодно. Людмила Александровна чувствовала за собою вину — видела, что тетка ждет от нее откровенности, но правды открыть, конечно, не могла, а солгать не умела.
— Что мне выдумать на себя? что ей сказать? — металась она. — Любовь, что ли, какую-нибудь сочинить… Да ведь не выйдет ничего: она всю жизнь читала в моей душе, как в книге, — сразу заметит, что я обманываю.
Провожая Елену Львовну на вокзал, Верховская все как будто порывалась заговорить с нею о чем-то, но всякий раз смущенно осекалась на первом же слове, так что старуха, утомленная ее нервною суетливостью, под конец прикрикнула на нее:
— Да будет тебе корчиться, как береста на огне! Ну — не удостоена твоим доверием, прячешь от меня что-то, и не надо мне твоих секретов. Молчи! и — главное — не терзайся, пожалуйста, из-за этого угрызениями совести… Этакая мнительная женщина: просто смотреть досадно!
— Да нет, я ничего, я ничего… — забормотала Верховская.
— Только смотри, Людмила! — строго продолжала Елена Львовна. — В тайны твои лезть я не хочу — секретничай, пожалуй. Но — раз ты прячешь их от меня, нехороши, должно быть, твои тайны! Так помни: если я, помимо тебя, узнаю что-нибудь темное, нехорошее — помни, не прощу. Ты что-то дуришь! Опомнись, возьми себя в руки, — не для себя ведь живешь… уже не молоденькая… уже у тебя муж, дети.
Верховская отвечала тетке какою-то жалкою улыбкою.
— Да, да… муж, дети… не беспокойтесь за меня, тетя: это я помню хорошо, всегда помню. А что вы думаете, будто я не откровенна с вами, — не стану спорить: может быть, сознаюсь, есть немножко… Но теперь еще рано, а когда будет можно, я вам все сама скажу — как в детстве… помните?
«Так и есть: любовник и собирается расходиться с мужем», — мелькнуло в голове Елены Львовны. Взгляд ее стал еще строже. Она пожевала губами и сухо сказала:
— Хорошо, я буду ждать. Что же? Ведь не в последний раз видимся…
«Нет, нет, — думала Людмила Александровна, возвращаясь домой. — Мы именно в последний раз виделись. Веревка лопнула — ее не связать без узла. Прощай, моя дорогая тетя! Я тебя потеряла… и так, человека за человеком, растеряю всех, всех…»
Когда Аркадию Николаевичу Сердецкому хотелось хорошо и много работать, он уезжал из Москвы к кому-либо из своих деревенских друзей и там — «вдали от шума городского и от вседневной суеты» — писал по целым дням, пока не сходил с него трудовой стих. Теперь ему оказывала гостеприимство старуха Алимова. Он жил в ее имении уже третью неделю. Первый вопрос его возвратившейся хозяйке был о Людмиле Александровне. Алимова только рукою махнула. Аркадий Николаевич омрачился:
— И по-прежнему этот неестественный интерес к ревизановскому делу?
— Представьте, да.
— Раздражение против Петра Дмитриевича, ссоры с детьми и мужем?
— Да, да, да.
— Гм…
Аркадий Николаевич долго ходил по комнате, теребя свои густые седины. А Елена Львовна говорила:
— Уж позвольте быть с вами откровенною. Покаюсь вам: никогда я не имела о Людмиле дурных мыслей, а сейчас начинаю подозревать, — не закружил ли ее какой-нибудь франт? Знаете: седина в голову — бес в ребро.
Сердецкий молчал.
— Только — при чем тут ревизановское дело? — продолжала Алимова. — Ума не приложу. А есть у нее какой-то осадок в душе от этой проклятой истории — это вы правы: есть. И много тут странностей. Представьте вы себе: когда она гостила у меня в деревне — хоть бы словом обмолвилась, что Ревизанов возобновил с ними знакомство, обедал у них и у Ратисовой… Затем… не следовало бы рассказывать, — ну, да вы свой человек, вы, после меня, любите Милочку больше всех… Так уж я вам все, как попу на духу… Синев Петя уверяет, будто Людмила выехала ко мне пятого числа, то есть накануне дня, как был убит тот несчастный; между тем у меня в календаре приезд ее записан под шестым… я отлично помню.
— Все врут календари! — насильственно улыбнулся Сердецкий.