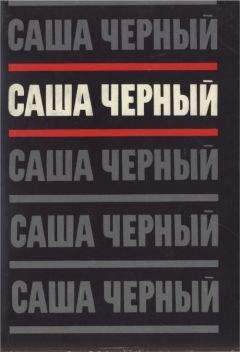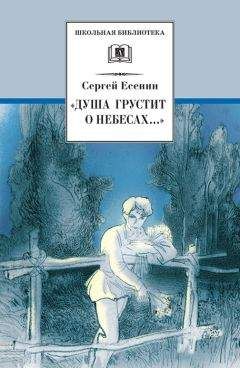Вадим Андреев - Стихотворения и поэмы в 2-х томах. Т. II
«Все шатко, все в мире — утрата…»[53]
Все шатко, все в мире — утрата,
И даже вселенной — смертная дата
Мерещится нам: улетает куда-то
Все то, что придет или было когда-то.
По точным орбитам летят друг за другом,
Рождаясь и вновь угасая, светила,
И время, вращаясь по кругу, по кругу
Не знает само — что будет, что было.
И только порою летит по спирали
Кометой, бежавшей из заточенья,
Из времени вырвавшись, — дале и дале —
Непокорное числам мгновенье!
Только мгновенье любви совершенно,
Вневременно, неизмеримо,
Только оно в бесконечной вселенной
Своевольно и неповторимо.
Обетованная земля («Мне никем та земля не обещана…»)[54]
Обетованный — обещанный. Ханаанская земля,
в которую Бог, согласно своему обещанию, привел евреев.
Мне никем та земля не обещана…
Странником к обетованной земле,
К той, что всю жизнь мне мерещится,
Сквозь ветер и вьюгу стремительных лет,
Я иду и встречаю — за кладбищем кладбище:
Я иду по следам революций, предательств и войн,
По следам лагерей, по заросшим травою пожарищам,
Ведомый одною лишь мыслью — домой.
А дома-то нет: он стоит за порогами
Канцелярских торжеств, лицемерья и лжи,
К нему не пройдешь столбовыми дорогами,
К нему лишь тропинка, петляя, бежит.
По лесу идешь и зовешь — издалека аукнется
Человеческий голос — протяжно звенит золотое «ау»,
Но и он о молчанье, как в стену высокую, стукнется,
Как будто я только ушедших из жизни зову.
Полстолетья прошло, и дорога назад мне заказана:
Я от странствий устал — не по мне поезда, не по мне корабли,
Что смолчал, то смолчал, но что сказано — сказано…
Я стою на пороге — обетованной земли.
«А в памяти детство…»[55]
А в памяти детство.
Невозвратный уют.
Меня еще Димой
Дома зовут.
Зовут — недозваться —
Недозваться меня:
Я еще в обаяньи
Золотого огня.
Керосиновой лампой
Стол освещен.
Я в книжные строки
С головой погружен.
И прямо из круга
В ладони ко мне
«Рожденное слово»
Слетает в огне.
«Из пламя и света» —
Как она хороша,
Эта ясная строчка! —
И слышит душа,
Как слово вспорхнуло,
Как слово летит,
Как нежное горло
Ошибкой звенит.
Бессмертное слово,
Таинственный звук…
Керосиновой лампы
Магический круг.
«Ночь спорит с днем. В речных просторах…»
…стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких тростниках.
Ф. Тютчев
Ночь спорит с днем. В речных просторах
Гуляет ветер. Мыслящий тростник
Поет, и мусикийский шорох
Преображается в земной язык.
Но все слова полны значеньем,
Неясным человеку, волшебством,
Магическим и темным пеньем
И непонятных звуков торжеством.
Нам тайну слова Бог не выдал,
Ее не ведают ни друг, ни враг,
Но тот, кто знает, — древний идол —
Хранит от зла языческий очаг.
«Быть может, останется несколько строк…»
Быть может, останется несколько строк,
Не подчинившихся власти забвенья…
О как будет тот день и широк, и высок,
Станет на миг бесконечным мгновенье
Для ушедшего в смерть, если кто-нибудь там,
В мире далеком, где жил он когда-то,
Доверит своим задрожавшим губам
Слово того, кто ушел без возврата!
«Люблю тебя. Бессмертье мне постыло…»
Люблю тебя. Бессмертье мне постыло.
Мне дорога моя земная скорбь.
Я помню жизнь и все, что в жизни было —
Страданий и восторгов острый горб.
И поднимая взор мой в небо, к Богу,
Я слышу голос: «Ты молись и верь».
Я говорю ему с отчаянной тревогой:
«Молчи, не искушай, не лицемерь!
Ты без меня не Бог, Тебе я нужен.
Отображен во мне Твой вечный лик.
Ты мысль моя, Ты мной обезоружен:
Я раб, но я Твой символ, Твой язык».
«Я шел непроходимым лесом…»[56]
Э. Неизвестному
Я шел непроходимым лесом.
Увидел кедр. По вертикали в тучи
Рвалась вершина. Под густым навесом
Его ветвей остановился я у самой кручи,
У края гладкого, как ствол, обрыва
Вдруг замер я — беспомощно счастливый.
Я был в скрещении зенита и надира,
Вне времени. Пустот таинственные дыры
Зияли подо мной и надо мной. На брюхе
Прилег усатый уссурийский тигр
И полз ко мне, должно быть, не для детских игр,
Ко мне, лишенному дыхания и слуха.
Я стал гранитом. Я не смог руками
На ключ закрыть лица. Тигриные зрачки
Горели, источая желто-синий пламень,
И стало все отчетливо темней,
Но я не мог разжать тиски.
Он описал вокруг меня дугу,
На лапы встал и скрылся в толчее ветвей.
Отныне я до смерти не смогу
Забыть скольженье черно-рыжих полос,
Небытие мое, гранитом ставший голос.
«Как сердцу становится близко…»[57]
Тоска глядеть, как сходит глянец благ,
И знать, что все ж в конец не опротивят,
Но горе тем, кто слышит, как в словах
Заигранные клавиши фальшивят.
Иннокентий Анненский, «К портрету»
Как сердцу становится близко
Сияние блеска и света…
Иль это случайно — описка
Грядущего лета?
Я вижу — серебряных полос
Фонарных ложится на стены
Прозрачно-таинственный голос
Последнего плена.
А завтра… Но завтра, быть может,
Не будет, не будет, не будет,
И свет пожелтевшее ложе
Остудит.
Василий Аксенов. Встречи с Вадимом Андреевым
Поздней осенью 1966 года мне случилось выступать в Женевском университете. Визит советского писателя, да еще молодого и с «крамольным душком», был в те времена не частым событием. Амфитеатр был заполнен. Кто-то сказал мне, что среди публики присутствует эмигрантский русский поэт и прозаик Вадим Андреев. Я был этим сообщением взволнован. Эмигрантская литература интриговала нас, детей послесталинской оттепели, она как бы связывала с отрезанным «серебряным веком», а тут был никто иной, как сын одного из самых ярких художников предреволюционного ренессанса, полумифического Леонида Андреева.
После выступления Вадим Леонидович подошел ко мне и пригласил к себе в гости. Он располагал привлекательной внешностью, сухопарый джентльмен с застенчивыми и чистыми глазами. Мы отправились довольно большой компанией, а по дороге она еще разрослась вдвое: хозяин с русской широтой наприглашал, как мне кажется, много и незнакомых людей. В каком направлении мы шли, к озеру или от озера, я, сейчас не помню, но для меня тогда эта прогулка вдоль тихих и чистых улиц Европы шла в другую сторону от проклятой советской власти.
Вечер был шумный, все говорили разом, в углу крутили песенки московских бардов. Хозяин прочел несколько своих стихотворений. Строчки были простыми, прозрачными, наполненными заснеженным петербургским символизмом.