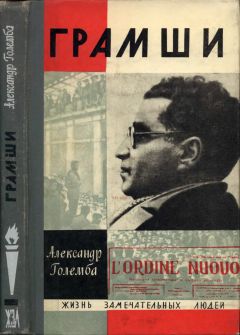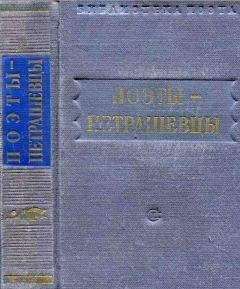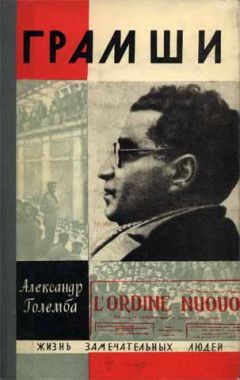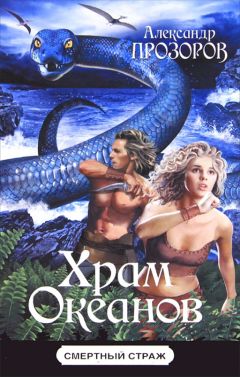Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
МОСТ МОЛОДОЙ
Если мост над рекой изогнулся дугой,
если хочется взмыть в высоту,
подожди, дай покой, сердцу дай, дорогой,
и постой на полночном мосту.
Этот мост в полный рост от погоста до звезд,
много верст нам пройти предстоит,
этот мост в вышину, этот пост в тишину,
солью звезд он, как оспой, изрыт.
Если люди пройдут по такому мосту,
не прогнется тот мост нипочем;
если духи пройдут по такому мосту,
он к воде прислонится плечом.
Если смерть суждена и гнетет тишина,
если полночь как горе тверда,
если ночь до краев чуждой болью полна,
под мостом не всплеснется вода.
Но когда, отрывая пучину корост,
опрокинешься ты над водой,
закачается мост, заколеблется мост,
заколышется мост молодой.
«Разве слова развеселые…»
Разве слова развеселые
смогут развеять печаль?
Снова стою у костела я,
сального словно свеча.
Что ж, обращусь и в католика,
веру былую кляня,
если хоть малая толика
слез не падет на меня.
Полночь увечная спятила,
спит за костелом погост,
кротко взирает с распятия
окровавленный Христос.
В кожу впиваются терния,
взор страстотерпца погас…
Нет испытаний безмернее
тех, что свалились на нас.
Скрыться от гибели где ж еще
тем, кто утих и устал?
Вот и ищу я убежища
даже под сенью креста.
Лик Искупителя клонится,
а Богоматерь в тиши
плачет, – единоплемённица,
страсти мои утиши!
«Восковые свечи в Божьем…»
Восковые свечи в Божьем
храме, где земной поклон,
отражаемый подножьем
ионических колонн.
Как они темны и тонки,
теплящиеся в тоске,
на Полянке иль Волхонке
иль в Ордынском тупике.
Им таиться в душах сонных,
обрученных с тишиной…
Это я не о колоннах,
а о вечности свечной.
Мы не бревна в пилораме,
мы скорей как боль в груди,
восковые свечи в храме
всей вселенной посреди.
ПАМЯТЬ
Голубком подстреленным ковыляет облако,
грудь его забрызгана синим молоком.
Память – это колокол с языком из войлока,
память – это комнатка с низким потолком,
соучастница разгула, догоревшая свеча
или камера-обскура на соломинке луча!
НАГИМ ПЛЕЧОМ
Как человек — нагим плечом,
крылом зимы вломилась птица
в твою сумятицу, столица,
крылом зимы белеет птица
над силикатным кирпичом.
Она над тяжестью земной,
над скверами — белей солонок, —
она над алой голизной
бензозаправочных колонок;
и хорошо, что не могу
я, в грузности своей отпетой,
стать этой птицей, мыслью этой,
пернатой этою кометой
в декабрьском мертвенном снегу!
Судьба у каждого своя,
но ведь не всем дано вломиться
нагим крылом — как эта птица —
в белесый холод бытия.
«Только несколько слов о печали, тревоге и смерти…»
Только несколько слов о печали, тревоге и смерти,
и пускай говорят мне, что лексика эта дика,
я отвечу одно: соловьиные трели умерьте,
так диктует нам совесть, железная совесть стиха.
Покривишь ты подчас и душой, и движеньем, и делом,
но запомни одно – горьким словом нигде не солги!
Мы с тобою летим к отдаленным морозным пределам,
лжец, – отныне с тобой мы до смертного часа враги.
Так диктует душе чепуха соловьиного лада,
так вопит в темноте угнетенная жалобой суть, —
ничего не хочу, ничего мне на свете не надо,
только тронуть тревогу, бегущую в небе, как ртуть.
«Стучат твои часы, бессонны…»
Стучат твой часы, бессонны,
мутнеет мир, тускнеет свет:
так начинаются канцоны,
когда и жизни в жизни нет.
Обрывки звуков лезут в уши,
мрачнеет полночь за окном,
тревоги сердца – глуше, глуше,
миг — и последним станут сном,
преобразившим все томленья,
все искушенья плотских сил,
последним сном без пробужденья,
который птицей в небо взмыл!
«Есть в посвистах чужого языка…»
Есть в посвистах чужого языка
какие-то неслыханные звуки,
чужая боль, бессилье и тоска,
чужие дни в преддверьи тайной муки.
Не передашь их, не запишешь их,
невнятных и беспечных, словно чудо, —
но здесь рожден чужеязычный стих
и истина является отсюда.
Как боль моя, как жизнь моя горька,
как мало дней еще сумел сберечь я, —
холодные нисходят облака
с чела полузабытого наречья.
И я опять глаголы бед учу,
в сады тревог своим пером вонзаясь,
в чужие двери кулаком стучу
и вижу, как растет чужая завязь.
«Слова уходят в ночь и тьму…»
Слова уходят в ночь и тьму,
как больно сердцу моему,
и как душа моя мертва,
душа, взрастившая слова, –
ей нет начала и конца,
она совсем одна,
высоким холодом свинца
она полным-полна.
Возьми ее и донеси
до граней злого дня,
скажи ей: «Душенька, мерси,
теперь прости меня!»
ПРИМОЛКШЕЕ ЖЕЛЕЗО
Настало время горьких слов,
безумствуют стихии;
как паровозы, под откос
летят сердца людские,
и ты летишь, и я лечу,
и так легко задуть свечу,
и так легко лежать в тиши
в краю черно-зеленом,
и не мечтать, и не жалеть,
и в день осенний шелестеть
багряноруким кленом!
Скажи мне, сердце, если ты
еще не под откосом:
какие свойственны мечты
вертящимся колесам,
о чем им шепчет телеграф,
неслышен и поспешен?
О чем рыдают в проводах
звенящие депеши?
А ты молчишь, а ты нежней
прощальных мартовских огней,
живущих ночью черной,
нежней всего – нежней меня,
нежней сигнального огня
над утренней платформой!
Ты ждешь: твое житье-бытье
всё так же бесполезно, –
о сердце бедное мое,
примолкшее железо.
«Вознесен двуликий Янус…»
Вознесен двуликий Янус
в небеса осенней мглы, –
я с листвой увядшей вяну,
сыплюсь пригоршней золы.
Мы – смолистые поленья
в топках сумрачных недель,
наша жизнь – испепеленье,
кучка пепла, поздний хмель.
«Птица катится капелькой ртутной…»
Птица катится капелькой ртутной
над базаром вещей и клевет,
начинается сдержанно-мутный
омерзительно-мутный рассвет.
Эта птица, как песня ребенка,
бликом света на города лбах.
Это боль на души шестеренках
заскрипит, как песок на зубах.
Не играйте с печалями в прятки,
вы теперь уже не малыши.
Ах, какие у нас непорядки
в часовом механизме души.
«Не жди меня до темноты…»
Не жди меня до темноты,
не погружай меня во тьму,
не уверяй меня, что ты
не сторож брату твоему.
И в человеке у дверей
попробуй не узреть врага,
и чужеземца обогрей
теплом родного очага.
Он будет благ, он будет слеп,
он позабудет о земном,
он будет есть твой теплый хлеб
и запивать его вином.
И, ломти темные деля
и осушив кувшин до дна,
уразумеет, что земля
у всех одна, на всех одна.
«Есть даже в грусти – счастья проблеск…»